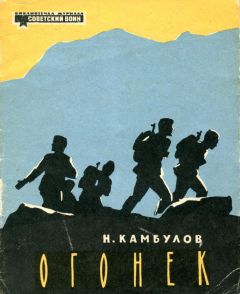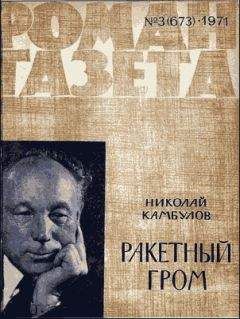Александр Иличевский - Ай-Петри
Чтобы быть с ней, я готов выколоть себе глаза.
Звон цикад начинает волнами покачивать дыхание ночи. Густой воздух становится упруг и податлив сладостным чувствам. В переливчатой осыпи уличных огней, колеблемых и тасуемых по зыбкой в мареве панораме, загорается где-то оконный маяк немыслимого гарема. Влекущей звездой он дрожит на краю наития. Расходясь от таинственного окна, огромные кольца счастья несут свой центр через солнечное сплетенье, наполняя его, как фокус, цветочной тревожной тягой южной любовной тоски.
Да, тем августом неизбывная духота объяла Южный Берег тучными меховыми объятиями, словно прозрачное чудовище – свою любовную жертву. Полный штиль покорил море медленно мерцающим зеркалом. Повальная недвижность чумой полонила поселок. Любое шевеление отзывалось сердечным помутнением, и тело, словно напитанная губка при нажиме, обливалось истомой. Рука, потянувшись за предметом, трудно проходила сквозь горячий тинистый воздух и застывала на полдороге, удивившись обмороку мышц. Единственными живыми существами вокруг оставались кусачие мухи. Их подвижность была невыносима – нельзя было ни понять, ни согнать, ни сгинуть от их поползновений. Так подвижны черти-служки в аду. Пульс разносил черепную коробку бомбежкой, самолетики рассыпались, изнутри разбегаясь мурашками по небосводу кожи – и, сипло всасывая воздух, я прядал из дремоты, взметываясь на постели, как из моря – по пояс – после глубокого нырка, перейдя предел задыхания.
Первого сентября рано утром она вернулась с переговорного пункта.
С прямой спиной села на подоконник. Окаменела.
Дети и мамы отовсюду спускались по переулкам к школе. Ранцы подпрыгивали, плыли охапки астр, гладиолусов, роз, георгинов. Опрятные, отмытые, выглаженные школьники смирно прощались с летом. Белые отложные воротнички, прямые спинки, отутюженные брючки, пышные банты, белые фартуки, кружева воротников, глянец туфель – и тупое усилие на лице мальчишки, потянувшего мать за руку с быстрого шага, оглядываясь на рыжую – потягивающуюся на солнечном парапете – кошку: выражение, скрадывающее одновременно интерес, скуку, напряженное воспоминание о школьном мире.
Этим утром она узнала, что никогда больше Его не увидит.XXXIII
Только что передали в новостях: «Сегодня Норвегии было возвращено национальное достояние: картины Эдварда Мунка „Крик“ и „Мадонна“, похищенные в августе 1994 года. Месяц назад Норвежское правительство отказалось выплатить за них выкуп. Скотланд-Ярд через подставных лиц, в качестве подпольных коллекционеров выступивших с предложением купить картины, вышел на похитителей. Полотна были обнаружены в одной из сельских гостиниц близ Лондона. Преступники арестованы».
Спалось тяжко. Я лежал на веранде, следил за неподвижной медлительностью звезд. Иногда поднимался и взглядывал в трубу, надеясь застать ее в окне. Но окно скоро гасло, или в нем вовсе не появлялся свет, и я вновь возвращался к звездам.
Мне нравилось растворяться в их неподвижности. Всегда в очень медленных процессах мне чудилось что-то фантастическое. В самой их медленности, незаметности для глаза, неспешности, выпадающей далеко из диапазона человеческого масштаба неподвижности, была скрыта тайна. Удивительно: движение существует и, находясь ниже порога человеческой чувствительности, сказывается потайным, выпавшим в параллельный мир. В детстве я дважды получал солнечный удар, когда часами просиживал перед подсолнухом, поражаясь его величественному обороту, следовавшему за восхождением в зенит. Со временем я так натренировал свой медленный взгляд, что стоило мне сосредоточиться – при этом я словно бы мышечным усилием наводил на резкость некий увесистый хрусталик в правой верхней доле мозга, – как медленный процесс взвинчивал свой ощутимый рост подобно быстрой съемке. Тем самым, управляя внутренним временем, я локально ускорял мир. Мне ничего не стоило построить муравейник. Вылепить гнездо стрижу. Наполнить золотистый объем смолы на стволе вишни. Поднять из-под иголок шляпки маслят. Поскорей закатать асфальтом площадку для запуска кордовых моделей. Или просыпать неделю до каникул сквозь пальцы, незаметно и без вреда, словно бы я наглотался сонных таблеток.
Я бесконечно лежал, почти не смыкая глаз, на веранде, как мертвый в лодке. Небо наискосок плыло надо мной. Ночью его то стремглав, то плавно пересекали спутники, в нем гасли метеоры. Крупные космические станции сияли как планеты. Постепенно я погружал себя в забытье. Но стоило только закрыть глаза, как едкий, бураковый закат взрывался медленно в башке, и под слитными сводами век начинали тянуться гулкими косяками винтовые бомбардировщики. Двухвостые мощные Пе-2 шли крыло к крылу, и воздух тут и там ухал гроздьями зениток и ближней канонадой, словно тело от сердечного ёка, и радист размеренно позывал, как заведенный: «Витязь, Витязь, прием, заходим на цель, снижайтесь, азимут семьсот – три, четыре, восемь, снижайтесь, снижайтесь, Витязь, Витязь, прием, семьсот… »
И наконец я понял, что не сплю не только потому, что жарко или мне интересно смотреть на звезды. Я был взвинчен, и неподатливая подспудность хандры не давала мне покоя.
И вдруг я подумал, что сходным образом собаки предчувствуют землетрясение, когда нечто необъяснимое гонит их прочь от жилья. Медленные, ощущаемые лишь мембранной линзой мозжечка, колебания земной коры слагаются в лавинную энергию беспричинного страха.XXXIV
И тогда я встал, зарядил ракетницу и вышел из дому.
Было не поздно. Шествие возвращающихся из прибрежных ресторанов курортников только началось. Далеко за полночь долгой шумной вереницей они будут подниматься в потемках круто в гору, к Кореизу, рассредоточиваясь, редея, разбредаясь по улочкам на ночлег. Мимо меня плыло особенное шествие. Будоражащий запах пудры, духов, вина и тонкий дурман девичьего пота окатывали меня, когда в потемках я сторонился на мостках, повсеместно переброшенных через сухие ручьи и водостоки.
Поселок повернулся крутым боком, скользнул и помчался под ногами, навалился на грудь наклонным напором тяготенья.
Хотелось пить. Я не стал спускаться к базарчику, чувство беспокойства гнало меня на лестницу, срезавшую петлю серпантина к началу улицы Горького.
Я взлетел по ступеням и на среднем прогоне ушел чуть вправо, уступая дорогу кому-то, кто тенью спускался сверху, из-под шатра фонарного света. Услышал: «Привет». Машинально пробормотал: «Привет» – и тут у меня отнялись ноги.
Опустился на ступеньку.
Задержавшись на мгновение, она сбежала вниз.Она шла к автостанции – за молоком. Ей было зачем-то нужно молоко – и в дежурном гастрономе мы купили четыре пол-литровых пирамидки.
Я взял у нее из рук сетку.
Побродив, вышли на пляж и долго сидели в темноте у моря.
О чем говорили?
Сначала, как и в тот раз, я трепался со страху, но скоро заткнулся.
Ком немоты забил мне горло, пульсируя непроизносимыми словами.
Мы сидели на гальке, у белеющей кромки воды.
Потом она положила голову мне на плечо и сжала локоть.
Я не посмел шевельнуться.
Сзади гремела и завывала дискотека. В темноту пляжа с подрагивающей тусклыми огнями набережной то и дело спускались люди. Кто отходил в сторонку отлить. Кто раздевался и шел поплавать. Кто просто хотел посидеть под звездами у моря, выпить вина, покурить.
К нам подошел человек и попросил посторожить одежду.
Она спохватилась: надо выгулять и накормить собаку.
Мы дождались, когда у берега снова покажется поплавком голова пловца, и встали.Дервиш напористо вынес ее из калитки и припал к забору.
Белый вихрь стал, волна желания накрыла меня с головой, подхватила, понесла.
Дервиш повлек нас по переулкам.
Она успела схватить меня за локоть.
Властные рывки волкодава передавались через ее тело.
В своем рысканье Дервиш был неистов. Он носился по всему поселку, набрасывал петли на пустырь, вокруг котельной, поднимался в переулки, замирал – и вновь устремлялся, забирая то вниз, то вверх, то по прямой рвался к нижней дороге.
Натягивая поводок всем упором инерции, мы лишь слышали хриплое дыханье, преодолевавшее строгий ошейник, и как когти волкодава, клацая, царапают асфальт.
Прохожие, столкнувшись в темноте с белой зверюгой, шарахались в стороны. Мы слышали ругань и визг. Сетка с молоком болталась, как праща.
Задыхаясь от быстрого шага, разогнанного урывками перебежек, спустились к пляжу, поднялись (я растянулся на лестнице и после догонял), ускорились до ротонды, испугали подростков, целовавшихся у парапета, и вдруг напрямки он рванулся по крутой грунтовой дороге к верхней станции фуникулера.
Она не пыталась одернуть пса, хлестнуть поводком по морде, прикрикнуть. Сложное ощущение владело мной, возбужденное ее передавшимся трепетом.
За все время этой околесицы – за все то время, когда мы с ней мчались, рука об руку, сталкиваясь и соединяясь, сопротивляясь и подчиняясь, слаженно, как одно тело, – она не проронила ни звука. Только с силой выдыхала от напряжения, постанывала сквозь зубы.