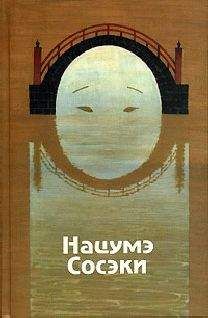Жан Жубер - Красные сабо
Вот мой отец, в одной рубашке с расстегнутым воротом, в подтяжках, точными, уверенными движениями колет дрова, под его топором чурбаки раскалываются с одного удара и, кувыркаясь, валятся на пол, а иногда ударяются о стенку. «Отойди подальше!» — говорит он. И рукавом вытирает пот со лба.
Теперь зайдем в глубь пещеры… но тут воспоминания расплываются: дальше, конечно, стена, стена подвала, но какая она — шершавая, гладкая, с выбоинами, с трещинами? Где были вбиты гвозди — там, тут? И что они скрепляли? Я делаю пол-оборота, и изображение вновь обретает четкость. На досках разложена картошка — ее нужно время от времени очищать от ростков, иначе она высыхает, съеживается и годится разве что на корм курам. Дальше — бочка на каменных подставках, обитая обручами, обернутая мешковиной, с почерневшим краном. Отвернешь его, и струйка вина, журча, побежит в бутылку, надо только не упустить момент, чтобы не пошло через край, иначе на утоптанной земле расплывется лиловатое пятно. Дальше — ветхий шкаф, где хранятся банки, кувшины, пустые горшочки из-под варенья. И наконец старая чугунная плита с остатками зеленой эмали, бак для стирки и подставка для белья, от долгого употребления побелевшая, как кости на солнце. Память дарит мне такую ясную картину, что, кажется, можно все это потрогать, понюхать, увидеть, как наяву, а заодно вызволить из плена забвения еще великое множество прочих мелочей: медный кран, печную трубу, жаровню, прохудившуюся кастрюлю — бедняки ведь ничего не выбрасывают («На что-нибудь да сгодится»), но в этой бережливости, как я думаю, есть и доля привязанности: так из вроде бы никчемных вещей создается в каждой семье скромный музей ее истории.
Я дорого бы дал, чтобы иметь дневник первых лет моего детства. Но в таком малом возрасте душа склонна скорее к излияниям, нежели к самокопанию, и ей еще нет нужды оставлять по себе след. И, напротив, общеизвестно, что отрочество, с его смутным томлением, уже тяготеет к самоанализу, хотя попытки его скорее можно назвать терапевтическими, нежели литературными, и в большинстве своем они быстро сходят на нет.
Я начну вести дневник только на пятнадцатом году жизни и буду продолжать его вплоть до 1953 года, года моего переселения на Юг; здесь он внезапно обрывается, быть может, оттого, что начался счастливый период моей жизни и поэзия некоторым образом вытеснила все остальное. Я помнил, что эти толстые тетради — около трех тысяч страниц мелким почерком — хранились на полке, в старом чемодане, ключ от которого я давным-давно потерял. Когда-то я убеждал себя, что это к лучшему — мне вовсе не улыбалось перечитывать собственные разглагольствования, верно напыщенные и смешные, — они занимали меня не больше, чем само то время, по моему мнению, весьма мрачное, когда я их писал. Правда, должен признать, мне и в голову не приходило уничтожить их, я вообще редко и неохотно уничтожаю такие вещи, ведь какая-то частичка нашей жизни запечатлена в этих бесчисленных бумажках — в письмах, фотографиях, газетных вырезках, старых журналах, — за долгое время их скопился вокруг меня целый Монблан. Да, мне кажется, что жизнь, застывшая в них, при случае готова внезапно вырваться наружу, как прорастают вдруг пшеничные зерна, найденные в египетских гробницах, — рассказывают, что, посаженные в землю, эти тысячелетние семена дают всходы.
Нужно ли говорить, что теперь я переменил мнение о своем дневнике и любопытство полностью победило страх. Вооружившись ножом, я без труда взломал чемоданные замки и среди мешанины из писем и набросков стихов отыскал пять толстых тетрадей.
Прежде всего бросается в глаза романтическая поза автора, обуревающие его грустные чувства: горечь одиночества, экстаз перед лицом природы, появление неприступных и неуловимых сильфид, робость, страстная жажда любви и дружбы, которая то и дело наталкивается на препятствия. Все это изложено неуклюжим книжным языком, мало оставляющим места записям реальных фактов. Только к семнадцати годам тон становится более естественным и одновременно более мрачным. Более или менее нормальное отношение к жизни сменяется душераздирающей тоской. Мотив одиночества звучит все сильнее. Зрелый возраст, как кажется мне, сулит жалкую, бесцветную жизнь. С молодыми девушками — но теперь все эти «сильфиды» вполне материализовались — я поддерживаю исключительно целомудренные, возвышенные отношения, которые неизбежно кончаются крахом моих иллюзий и еще большей горечью. Что касается сексуальных мотивов, то проявляются они крайне редко, всегда отмечены почти демонической печатью в виде прилагательного «плотское» — секс представляется мне пугающей, мрачной бездной, неведомой и неназываемой. В то время о подобных вещах не рассуждали с той же легкостью, как сейчас, — даже те, кто обходил стороной церковь, испытывали, прикоснувшись к этой области, некое ощущение греховности. Здесь же вперемежку записи о гнетущей скуке провинциальной жизни, попытки политических рассуждений, как некий эрзац абсолюта, а рядом жалобы на прицепившийся ко мне фурункулез. Семейная меланхолия — наследие предков — одолевала и в двух-трех случаях едва не доконала меня. Мраморное кладбище под окнами, туманы и война вряд ли могли препятствовать ее развитию. В этом возрасте, когда другие мои сверстники развлекались, я взлелеивал в себе черные мысли и бродил один по лесам. Я перечел эти страницы и то, что скрывалось между строк, со смесью интереса и неловкости; вспоминая свое более раннее «Не хочу вырастать!», я вижу в нем как бы предчувствие того, что последовало позднее. Из туманной бессвязицы выделяются, однако, несколько фраз, на которые можно было опереться в будущем: в пятнадцать лет я вдруг безапелляционно заявляю: «Я хочу стать писателем!», а чуть дальше такая сентенция: «Я понимаю, что труд — настоящее спасение для людей, от природы предрасположенных к грусти». Под этой фразой я готов подписаться и ныне.
Но во всем этом нет ничего непосредственно относящегося к моему детству, кроме отдельных мелких письменных свидетельств: почтовые открытки, присланные с моря, с видами утесов или курзалов, с самым банальным текстом, например: «Здесь жарко, я купаюсь, мне весело, вчера я ел креветок», потом неумелые рисунки дома и сараев, которые Алиса сохранила среди своих реликвий, и крошечные блокнотики, где я записывал свои секретные счеты с кузиной Сильвией или результаты сбора орехов и подсолнечника. Впрочем, этими малозначащими бумажками не стоит и заниматься — они мне почти ничего не напоминают. К счастью, кроме них, остались родные места — их я вопрошаю, и они отвечают мне.
Я иду по лесу. Просека пустынна, в рытвинах поблескивает вода, налетающий ветер треплет сухую листву. Низко нависшие серые облака медленно проплывают над деревьями. Я вхожу в молчаливый подлесок — не знаю отчего, но здесь никогда не жили птицы, только сухие ветки трещат под ногами. Раздвинув кусты, я шарю под ними, внезапно охваченный старой детской страстью — найти гриб, как бывало прежде, когда мы с отцом ходили по грибы в лес близ Покура. Да, тот же рассеянный свет, то же перешептывание листвы, тот же идущий от земли влажный запах перегноя, ставший для меня с тех пор запахом октябрьского дня на Севере. Грибные места… уж мой-то отец хорошо знал их, ему открыл их его отец, когда они вместе по воскресеньям ходили рубить лес в рощицах за замком, чтобы подработать несколько лишних су: вязанки дубовых и ясеневых поленьев, распиленных и нарубленных, укладывались между двумя кольями, вбитыми в землю возле шалаша из папоротника, где всегда можно было спрятаться от ливня, особенно если накрыться сверху мешком. Но между делом они с отцом всегда улучали минутку, чтобы пошарить в лесу, и приносили домой целую корзину грибов на ужин. Этой охоте за грибами отец обучил и меня: сперва подметить подходящее местечко — сухое дерево, овражек, скрещение двух тропинок, — и там наверняка можно собрать хороший урожай. Особенно много попадалось дождевиков — если осень бывала дождливой и теплой, они десятками росли под грабами, только нагибайся да бери, прямо рог изобилия, или еще «вороньи рожки», как называли их здесь, — эти были черные с коричневым отливом, нежные и душистые. И еще «бараньи ножки» — молочно-белые грибы, растущие по одной линии: чтобы их обнаружить, нужно осторожно разгрести палую листву. Иногда попадались белые грибы, петушьи гребешки, лисички. Мы с отцом вынимали перочинные ножички и аккуратно срезали ножку, мой отец говорил: «Знаешь, есть такие дикари, что вырывают грибы с корнем, топчут их ногами. После таких ничего уже не вырастет!» Он — совсем другое дело. К лесу он относился как к саду, с любовью, очень бережно, так что из года в год мы находили наши потайные места нетронутыми. И боже упаси показывать их кому-нибудь! «Держи язык за зубами!» — приказывал отец, это касалось даже членов нашей семьи, которым в лучшем случае, если они очень уж приставали, давались самые туманные ориентиры: «К северу от Покура!» — поэтому не было особого риска, что наша сокровищница будет обнаружена. И это вовсе не потому, что отец не отличался щедростью. Я видел, как в особенно грибные годы он дарил соседям целые корзины дождевиков, но собирать их он предпочитал сам и этой своей радостью ни с кем не желал делиться, делая исключение только для меня. Истинные любители этой «тихой охоты» наверняка поймут его, поймут, почему он никому не выдавал свои заветные места.