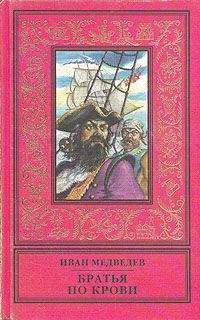Анатолий Тоболяк - Невозможно остановиться
Что еще, казалось бы, мне надо? Женщина… любимая?.. говорит «да, мне хорошо», лучше ведь слов не бывает. Она говорит «да», и она не лукавит, не врет. Очень сильное единение у нас, редкая слитность! Но я чувствую, знаю, что может нам быть еще лучше, можем мы стать еще ближе. И я отваливаюсь спиной на расстеленную одежду, увлекая Лизоньку за собой.
— Что ты?! — пугается Лиза. — Все, что ли? Так быстро?
— Нет, не все. Не все, — успокаиваю. — Подожди. Я хочу… Как объяснить ей, чего я хочу? Ну, ей-то я все-таки объясню, а вот как растолковать другу-читателю? Поймешь ли, друг-читатель, если я скажу, что почувствовал неодолимое желание… как бы образней выразиться?.. сменить авангардистскую, предположим, прозу Саши Соколова на добротные семейные тексты Элизы, предположим, Ожешко? Уловила, Лиза? Уловил ли, друг-читатель? Ведь это значит, проще говоря, что я не расположен нынче к сатурналиям. Ты не будешь против, Лиза… нет, конечно… если эта наша близость, третья по счету, пройдет под знаком домашнего, что ли, умиротворения, а лучше сказать — в познании не только бренного тела, но и неисповедимой души? Поэтому… пусть ложе жесткое… прими, пожалуйста, классическую европейскую позу… вот так, вот так, умница… а я стану двигаться вдумчиво и нежно, бережно и осторожно, мягко и, может быть, даже грустно. Давно ни с кем так… ты оценила, да? Соскучился Теодоров по простым и ясным мыслям, истосковался по взаимопониманию… да и женским своим чутьем ты наверняка улавливаешь, что происходит что-то необычное, небывалое, нечто вроде исповеди тут, вверху, и там, в глубине… и уж не знаю, доводилось ли тебе когда-нибудь ощущать такую бесконечную преданность, которую пытается высказать сейчас Теодоров со своим помощником.
— Мне… с тобой… очень хорошо, — слышу ее шепот губы в губы.
Да и мне тоже, что уж тут скрывать! А потому — еще бережней и нежней, еще вдумчивей и трепетней, — с грустной любовью, Лиза.
— Я… на небесах. А ты? Почему молчишь?
— Молча говорю, Лиза. Должна слышать.
— Я тебя… сейчас… люблю. А ты?
— Да ведь знаешь сама.
— Да, я чувствую. Спасибо. Спасибо.
Закрываю ей рот губами, хотя понимаю, что слова, слова, слова — это подлинник Вселенной — и могут в иные мгновенья вознести чувства на небывалую высоту. Но способны и уничтожить их, вот чего я опасаюсь. А потому помолчи, пожалуйста… парить, так парить в безмолвии, в тесных, молчаливых объятиях, столь редкостных, как эти.
Но что такое?! Лиза вдруг резко дергает головой, скашивает глаза. Руки ее упираются мне в грудь, отталкивая. Рывком я поворачиваюсь. Нет, это рок! Безусловно, злой рок преследует Теодорова и Семенову! Каким образом и откуда возник у окна этот старикан в брезентухе с капюшоном, мелколицый, мелкотравчатый, но живой?.. Не в песке же он хоронился до времени, как жук-скарабей, чтобы появиться на божий свет в самый неподходящий момент! Стоит, помаргивает, смеется.
— Дед! Пошел вон! — ору я, вскакивая на колени. Ожидаю, что мгновенно исчезнет, — может быть, опять юркнет в песок, — но он как стоял, так и стоит, ничуть не напуганный.
— Ишь ты какой грозный! А ты кто такой, что здесь командуешь? — бойко отвечает он. — Лучше б мне оставил маненько! — причмокивает губами.
Лиза взлетает на нарах, мгновенно свирепея.
— Ах, ты, старый пес! — кричит. — Пшел отсюда к своей карге! Но старикан и тут не исчезает, не проваливается сквозь землю, не бежит в панике от ее праведного гнева… и я в каком-то смысле его понимаю: глядеть сейчас на Лизоньку, растрепанную, сияюще белокожую… — одно удовольствие!.. и этот… кто он? сторож, что ли?.. подбадривает ее:
— Покажись, покажись! Ишь какая! А вот окно вы зачем выломали? Имущество казенное. Это как?
— Юра, прогони его… а то я его убью!
— Хрыч, — говорю я. — Сгинь! Добром прошу.
— Ты мне не грози. Я тут при деле. Антенну за бугром видал? Вот я там. Сейчас помощь кликну, ребята мигом набегут.
— Дай ему водки, Юра! Там осталось.
— Дед, хочешь водки?
— А я ее не пью. На што она мне?
— А чего тебе надо? Денег надо?
Это предложение заинтересовывает старикана. Он корябает пальцем около носа, соображая.
— Деньги что ж… Деньги давай, — милостиво соглашается.
— Нет!! — вскрикивает Лизонька. — Еще чего! Не давай! — И отталкивает меня, порываясь соскочить с нар и разделаться с этим несусветным пришельцем. Но я уже сам встаю (а помощник мой, ясное дело, кисло свешивает голову) и угрожающе направляюсь к окну. Старикан тут же отбегает на безопасное расстояние — в брезентухе, резиновых сапогах.
— Дед! — укоризненно говорю я ему. — Ты совесть имеешь, а? Ты понимаешь, страшный ты дедуля, что ты наделал?
— А чего? — откликается он издали. — Порядок соблюл.
— Нет, ты не порядок соблюл. Ты любовь нашу юную сгубил, нехороший человек.
— Мне за то деньги платят. Я этот объект по совместительству охраняю, понял?
— Понял. Так уйдешь ты?
— Не, не уйду. Окно мне заколотите чин-чином, тогда уйду.
Я оборачиваюсь к Лизе. Она сидит на нарах, подняв колени, обхватив их руками, мелко дрожит.
— Безнадежный дед, — говорю я ей. — Сталинист, наверно. Придется нам, солнышко, одеваться.
Лиза дрожит еще сильней. Клацает зубами.
— Гад, гад, гад!.. — слышу я и вижу, что из глаз ее текут слезы. Как утешить? Самому тяжело и тошно. Такое ощущение, словно что-то замкнуло внутри, закоротило, и кажется мне, что несет от меня резким запахом сожженной проводки… у самого глаза слезятся, как от гари.
Обнимаю ее, целую в шею, глажу по волосам, обесточенно бормочу:
— Ну, перестань. Ну, ладно. Ничего страшного. Наверстаем еще.
Нет, плачет. Безошибочно чувствует, что уже не воссоздать нам упущенные эти мгновенья, не восстановить уникальный текст в его подлинности… Бедная Лиза! (Н. Карамзин, «Бедная Лиза», изд. «Художественная литература», М., 1965 г.).
5. ЛЕЧУ В МОСКВУ И…
Да, лечу-таки. Рейс 14. Место 14 «А». Время вылета 14.30 по нашему. Поднялись в воздух точно по расписанию. Лечу-таки. Знаю, что лечу в Москву с одной промежуточной посадкой. До последнего мгновенья, до прощального поцелуя я не был уверен, что полечу. Но лечу-таки. Уже нахожусь выше перистых облаков, выше кучевых и каких еще там… в озоновом, возможно, слое, откуда земля кажется безлюдной и незаселенной. Уже отстегнул пояс безопасности. Уже открыл бутылку «Жигулевского» и пью из горлышка. Лечу-таки. И все-таки не понимаю, зачем я, собственно, лечу. Ну, сидела бы на месте 14 «Б» Елизавета Семенова — тогда куда ни шло. Но там сидит и злобно на меня косится толстая, жуткая бабища в кольцах и серьгах, наверняка из породы торгашей. Ишь как косится! Одна надежда, что, будучи продавщицей, она примет у меня к концу полета пустые бутылки по полтиннику. А Лиза осталась внизу, ее отсюда не разглядишь. Возможно, она вскинула голову, услышав гул самолетных турбин, сверилась по часам, мой ли это рейс, вздохнула и подумала, как хорошо сейчас Теодорову, путешественнику и небожителю, и как плохо ей, подневольной работнице пера… не пустил редактор, собака, на побывку к родителям. А того не знает, что мне сейчас и не радостно, и не весело, хотя лечу-таки в Москву, свободный-таки и независимый. (Сейчас прихлопну слово «таки» как таракана!) А почему не радостно и не весело? А потому, во-первых, что ее, Лизоньки, нет рядом, а сидит вместо нее жуткая щекастая бабища, которую и за миллион долларов я не сумел бы… «что? договаривай! что, Юрочка, ты не сумел бы?..» не сумел бы ее, Лизонька, доброкачественно оплодотворить. И вижу, как Лиза улыбается польщенная, но тут же тревожно хмурится: «А меня ты не успел это самое? Не хватает мне еще обзавестись животом!» Что ж, опасения ее не беспочвенны. Ибо четыре последние ночи перед отлетом я жил-поживал практически… это самое… внутри Лизоньки, иной раз там даже и засыпая, изможденный и обессиленный. Дикие ночки, удалые, с уголовной какой-то беспредельщиной! Лизонька их, однако, хорошо переносила. Я приглядывался к ней… зорко присматривался, но так и не заметил в ней никаких необратимых изменений — ну, это самое — глубоких морщин на лбу, дряблости кожи, выпадения волос и зубов… нет же! Молодая и выносливая, она по утрам убегала на работу, к своему письменному столу… я же, как больной, дряхлый пенсионер, вынужден был досыпать недоспанное, дабы (можно я употреблю редкое словечко «дабы»? попробуйте повторить раз десять «дабы, дабы, дабы…» и, клянусь, что утеряете всякий его смысл!..) дабы накопить сил для грядущей ночи. Зеркало в ванной комнате я прикрыл какой-то тряпкой, дабы не видеть такого страшного, усохшего Теодорова, и брился я на ощупь… да-а! Иной раз мне казалось, что уже ни одной росинки из меня не выжмешь и никакие подъемные приспособления мне не помогут. Но Лиза…
О, Лиза! Но нежные пальцы Лизы, но припухлые губы — ее, но сильный язык, но груди и ягодицы, но горячее межножье ее, но шопот «хочу тебя»… преступно было бы не откликнуться… какой я тогда писатель и гражданин, правда, Лиза? О-о! — отвечала она. У-у! — вторил я. Эти наши фирменные стоны (допускаю, что есть и другие, но не склонен я, друзья, к плагиату), сменялись биографическими исследованиями, в пределах Лизиной и моей скрытности — правда, Лиза? Ты ведь призналась мне, хоть я и не очень настаивал, что первый раз застонала лет так — допустим — в семнадцать («Но не так, как с тобой, не так, не так! все было не так, только с одним так, но он таким гаденышем оказался… о-о!»), а общее число твоих стонов, даже если это «ооооооооооооооооооо!!!!!» — кого оно может, кроме тебя, интересовать? Нет большей тупости, чем ревновать к чужому прошлому, так ведь, Лиза? Да и ты, умница-разумница, ставила мне в вину, когда уж очень распалялась, лишь кривоножку Суни, не допытываясь о былом, боясь, видимо, нежданной моей откровенности, которая могла бы, честно-то говоря, вылиться в «ууууууууууууууууууууууууууууу!!!» и так далее. Но кое-чему мы научились в эти ночи семейного, так сказать, проживания, — правда, Лиза? (Хорошее пиво, очень хорошее, свежее! А торговка рядом — жадная, страшная, плохая!) И молчать вовремя научились (это ты), и не засыпать мгновенно после близости (это я), и говорить по несколько часов кряду, как бы затаскивая к себе в постель твоих и моих знакомых, великих и ничтожных писателей, ученых, артистов… мало ли кого! А уж сколько времени рядом с нами пролежали Горбачев да Раиса, да Ельцин, да пылкий Гамсахурдиа, да бодрая отставная Тэтчер, да Буш, да гэкачеписты… это и не посчитать, — правда, Лиза? «А правда, тебе интересно со мной? — беспокоилась изредка Лизонька. — Ты иногда такой умный бываешь, даже страшно», — и я с чистой совестью отвечал, что от скуки с ней не умрешь. «Я не только в этом смысле, а вообще», — настаивала она. «И вообще», — отвечал я. «Интересно, насколько тебя хватит? — задумывалась Лиза. — Я все жду: когда, интересно, ты пошлешь меня на х…?» — нежно спрашивала она, а я смеялся и отвечал, что только этим, кажется, на деле и занимаюсь. Но таких слов не употреблял, нет, потому что с ее уст они слетали, как невинные семена одуванчиков, а в моих бы… прошу прощенья… устах… о, в моих бы умудренных, они бы отвращали, как кислотно-рвотные позывы! «От тебя зависит, сколько мы будем вместе, — пояснял я. — Непотребно ты молода. Старей побыстрей, догоняй меня, и опасность уменьшится». Лиза смеялась, ласкалась, обзывалась: «Дурачок! Мальчишка! Пьянчужка! Писателишка! Как это тебе удалось меня совратить — ума не приложу!» — и вдруг эти смеющиеся губы призывно открывались, прося меня, желая меня, и все переворачивалось, и начиналось круговращение с провалами и вспышками, а потом явь восстанавливалась — на некоторое время.