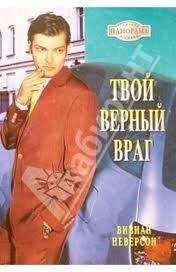Мария Рольникайте - Продолжение неволи
— А сколько времени вы?.. — Альбина запнулась, явно не зная, как спросить.
— В немецком — полтора года, а в советском — четыре года и два месяца.
— Но раз выпустили, значит, и до этого энкавэдэшного крикуна все же дошли факты злодейства немцев по отношению к вашему народу. И он, наверное, понял, что вы не могли ни добровольно им сдаться, а тем более сотрудничать с ними.
— Наверное. Но мне пора. — Он поднялся. — Не могу беспокоить своих друзей, они рано ложатся. Извините, что навел на вас грусть. Спокойной ночи.
— Вам тоже. — Любе было его жалко. — Заходите, пожалуйста.
— Спасибо. Большое спасибо.
Альбина ушла вместе с ним, и Люба острей почувствовала пустоту в своей комнатке. Уставилась на табуретку, на которой сидел этот человек с дедушкиным именем, и стало досадно, что не догадалась спросить его, кого из своих близких он ищет. Ведь, наверное, за этим пришел, как многие, особенно в первое время, приходили. И сама не спросила его про Борю. Может, он не погиб, а попал в плен. И потом его тоже забрали в советский лагерь. Даже в тот самый, где был этот человек.
После того как она окончательно поняла, что ни отца, ни мамы с Сонечкой нет, чаще думала о Боре. Хоть бы он, единственный из той, прошлой, жизни, вернулся. Но время шло, уцелевшие, даже после тяжелых ранений, хоть инвалидами, возвращались, и ей все труднее становилось поддерживать в себе надежду, что Боря жив. Потом и вовсе запретила себе надеяться. Даже вспоминать, как в начале их дружбы он, проводив ее до дома, спрашивал: «В следующее воскресенье мне можно прийти?» Пока она однажды не опередила его, спросив: «В следующее воскресенье ты сможешь прийти?» Он рассмеялся, и с того раза, прощаясь, оба одновременно произносили: «До следующего воскресенья!» Потом он стал приходить чаще.
Но после рассказа этого человека о советских лагерях для бывших военнопленных надежда снова забрезжила. Может, Боря не погиб, а попал в плен и догадался назваться поляком. Он же светловолосый и по-польски говорит без акцента. А до сих пор не вернулся оттого, что его дольше проверяют. Эта крохотная надежда ее усыпила…
3Когда на следующий день Альбина спросила, как ей понравился вчерашний гость, Люба удивилась, что о столько пережившем человеке можно расспрашивать — понравился, не понравился.
— А он, между прочим, тобой явно заинтересовался.
Альбина хотела еще что-то сказать, но ее позвали на отделение, и разговор оборвался. Потом и у нее было много работы — привозили одного за другим тяжелых больных, и она о вчерашнем госте даже забыла. Только вечером, вернувшись домой и увидев сиротливо стоящую посередине комнаты табуретку, на которой он сидел, вспомнила. И опять стало неловко: человек, наверное, приходил в надежде узнать о ком-нибудь из родных, а она своим удивлением, что он был и в советском лагере, «увела» его в соб-ственный рассказ. Хоть бы еще раз пришел. И лучше, чтобы один. Потому что Альбина недовольна этими расспросами. «Ты столько пережила, а эти приходящие еще и забыть не дают». Знала бы, добрая душа, что и без этих расспросов она живет не только в теперешнем времени… И не то самое трудное, что своими расспросами эти приходящие люди возвращают ее в лагерь, а то, что приходится их разочаровывать, почти виновато отвечать, что нет, не знает. Все, что она могла, — это обнадеживать: может, та женщина или девушка, о которой спрашивают, была в другом лагере, а если даже в том же, где она, то в другом блоке, то есть бараке. Ведь и внутри лагеря каждые два блока были отгорожены друг от друга высокой изгородью все из той же колючей проволоки. И только однажды она не могла обнадежить немолодую женщину — мать Рохци и Лили. Но и правду сказать не могла…
…Это было на последней селекции. Им приказали строиться, как обычно при селекции, в одну шеренгу. Унтершарфюрер объявил, что лагерь будут эвакуировать. Но возьмут только тех, кто в состоянии пешком преодолеть довольно длинный путь в другой лагерь.
Шеренга двинулась. Он плетью тыкал то в одну, то в другую узницу. Отобранная должна была выйти из строя и перейти к уже окруженным конвоирами смертницам. Когда он ударил по плечу Лилю и она, понурив голову, побрела к обреченным, Рохця вдруг метнулась к началу шеренги, к уже пропущенным. Но один из конвоиров — все его звали непонятным словом «перекульщик», наверное оттого что украинец, а перешел на службу к немцам, — ударил ее автоматом по голове, она упала, и он ее, лежащую, поволок за одну ногу по земле к уже угоняемым в газовую камеру.
Рассказать об этом их матери она не могла. А произнести: «Не знаю» — было еще трудней. И все-таки произнесла…
Только зря поделилась этим с Альбиной. Будто пожаловалась. Но Альбина почему-то была довольна.
— Наконец-то!
— Что «наконец-то»?
— Не молчишь, когда на душе камень.
— У каждого на душе свои камни. И не надо их перекатывать в чужую.
— А если не совсем чужую?
— Тем более…
— И тебе не приходит в голову, что своим молчанием ты ставишь между нами преграду?
— Какую… преграду?
— Разделяющую нас тем, что мне в то время было не так плохо, как тебе. Что на мою долю не выпало столько страданий.
— Что вы! Мне такое даже в голову не приходило. — Но спросить, что с нею в это время было, не решилась. Хотя очень хотела знать.
И Альбина рассказала. Правда, не в тот раз, а позже, во время одного общего ночного дежурства. Больные давно спали. Новых не привозили, и обе сидели, прислонившись к остывающей печи. Люба боролась с желанием закрыть глаза и хотя бы так, сидя, вздремнуть. Альбину, видно, тоже клонило ко сну, и она этому сопротивлялась, тихо мурлыча какую-то знакомую мелодию. Но неожиданно прервала ее и заговорила:
— Как ты думаешь, что нас с Пранасом спасло от отправления в Сибирь?
Сонливость мгновенно прошла.
— В Сибирь?!
— Ты что, не знала, что русские нас вывозили в Сибирь?
— Знала, но ведь…
— …Только богатых? Нет. Оказалось, что некоторым отделениям НКВД даже отпускали так называемые разнарядки — сколько человек и откуда доставить. И те старались. Брали не только так называемых кулаков и середняков, но даже бедняков-новоселов, которым сами недавно дали отнятую у кулаков землю. Главное, чтобы было нужное количество.
— Вы тогда жили в деревне?
— И родилась, и выросла. Она недалеко отсюда, тоже в бывшей Польше. А в тот вечер мы с Пранасом были в соседней, на танцах. Ушли, как всегда, последними — очень оба любили танцевать. Настроение было благостное — уж очень хорош был вид полей в этот предрассветный час. А главное, мы говорили о нашей предстоящей свадьбе. Наверное, поэтому не сразу удивились доносившемуся явно из нашей деревни лаю множества собак. Казалось, лают все, иные еще и воют. Мне чудилось, что узнаю голос нашего Маргиса. Даже Пранас забеспокоился, хотя зарева пожара не было видно и запаха гари ветер не доносил. Все равно мы побежали. Только вбежав в деревню… — Альбина умолкла. — И то не сразу мы поняли, отчего во всех хатах, мимо которых мы бежали, двери настежь распахнуты, а в окнах ни единого огонька, сплошная темень. И во всей деревне ни живой души. Одни лающие собаки. На нашем крыльце я споткнулась о валявшийся отцовский тулуп. А в сенях и обеих жилых комнатах все раскидано, ящики шкафа выдвинуты, везде следы поспешных сборов. Я, почти не понимая, что делаю, стала все собирать, водворять на место. Маргис прыгал вокруг меня, норовил лизнуть руку, явно стараясь что-то объяснить. Пранас побежал к себе. Но вскоре вернулся с нашим деревенским дурачком Юргялисом. Тот, видно, от пережитого страха еще и заикаясь, повторял одно и то же: что приехали чужие солдаты и всех увезли, из всех домов. Только Юргялис — он всегда говорил о себе в третьем лице — спрятался в коровнике, и его не нашли. Теперь он будет сторожить деревню вот даже грабли взял, чтобы этих солдат больше не впускать. Пранас его похвалил, а мне велел наскоро собрать самое необходимое, он вот уже собрал, и прямо сейчас, пока нас не хватились, уйдем в город. Там нас, может, не будут искать, да и в городе легче затеряться. Юргялиса попросил кормить собак. В домах и погребах какая-нибудь еда, наверное, осталась. Мы с Пранасом ушли. А в городе сразу, как были со своими котомками, пошли в костел, и Пранас попросил ксендза нас обвенчать, чтобы не жить вместе невенчанными. Ксендз нас и приютил, пустил в свой садовый домик.
— И вас не искали?
— Не знаю. Может, уже набрали нужное количество. А ровно через неделю началась война, и уже на второй день, как сама знаешь, загромыхали немецкие танки. Пранас меня, да и самого себя обнадежил, что за одну неделю наших, может, не успели далеко увезти, немцы же так стремительно наступали, что могли догнать эти эшелоны и всех вернуть. — Она вздохнула. — Увы… Пранас дважды тайком ходил в деревню. К сожалению, там была та же пустота, даже дурачка Юргялиса не нашел. Выходит, наших успели довезти до своей России… Хоть знать бы, что мои в этой проклятой Сибири не мерзнут. Ведь отцовский тулуп валялся на крыльце. Может, не разрешили его взять, не сам же он его бросил. — Она умолкла. Но, видно, не все, что на душе, излила. — Да и при немцах было ненамного лучше. Правда, не так жутко, как вашим, не расстреливали всех подряд. Только тех, кто при Советах был каким-то начальником, арестовали. Но страха мы тоже натерпелись. Главным было, чтобы не отправили в Германию. Вначале, пока изображали освободителей, только агитировали, чтобы мы ехали. Разные листовки распространяли. На них красивые картинки — уютные комнаты, на кроватях белоснежные покрывала, на окнах занавески, цветы. Но никто им не верил. И они стали проводить облавы, особенно на мужчин. Во время одной Пранас еле убежал проходными дворами и до ночи отсиживался в костеле. Потом, к счастью, устроился на другую работу — в авторемонтные мастерские, и получил «аусвайс», что не подлежит взятию на другую работу. Это его уберегло. А я работала в семье большого начальника няней. Хоть свой, литовец, но очень злой, не лучше немцев. Важничал, гордился доверием новых хозяев. Собственная жена его побаивалась. Тайком от него отпускала меня на вечерние курсы медсестер. Не хотела, но из-за него пришлось удрать в Германию. Кто знает, как там ей и ребенку живется. Может, все же лучше, чем моим в Сибири.