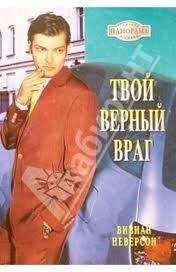Мария Рольникайте - Продолжение неволи
— Вы о своих родителях так ничего и не знаете?
— Нет. В анкете, когда сюда нанималась, по совету заведующей написала, что, прости Господи! — и перекрестилась, — умерли. На каждой исповеди ксендзу в этом грехе признаюсь. И за их здоровье утром и вечером молюсь.
Любе показалось, что она и теперь, в наступившей тишине, молится.
4После этого ночного рассказа Альбина ей стала еще ближе. Вспоминала и нового знакомого. Может, он знает что-нибудь о Боре, хотя его родители получили извещение, что погиб. Но сами же рассказали, что какая-то их знакомая тоже получила такое извещение — Люба даже про себя не произносила этого безжалостного слова «похоронка», — а человек вернулся. Оказалось, он был только тяжело ранен, без сознания, санитары думали, что мертв, а попал он в плен.
Однако попросить Альбину привести этого ее знакомого еще раз, даже просто заговорить о нем, стеснялась: смущали слова Альбины, что он ею явно заинтересовался. А человек, наверное, просто приходил, как многие, особенно в первое время, чтобы узнать, не была ли она в лагере с кем-нибудь из его родных. Может, человек придет еще раз. Тогда и сама его спросит, не встречал ли в плену или в том, советском, лагере Борю. Даже представляла себе, что он, как в тот приход, сидит на ее единственной табуретке посередине комнаты, а она ему описывает, как Боря выглядел. Даже сама ужаснулась оттого, что подумала о Боре в прошедшем времени…
Но все было не так. Не к ней домой пришел этот человек, а стоял напротив проходной. От удивления она растерялась.
— Вы Альбину ждете? Она сегодня дежурит.
— Нет. Вас. Извините, что не имел возможности предупредить.
— Ничего.
— Можно вас проводить?
— Да, пожалуйста. — И поспешно добавила: — Спасибо.
Он пошел рядом. Но молчал. А когда они переходили на другую сторону улицы и было скользко, бережно поддержал ее под локоть. Этим почему-то еще больше смутил. Но так и не заговорил. А у подъезда остановился.
— Рад был вас повидать.
От неожиданности у нее вырвалось:
— Я тоже.
— Вы не будет возражать, если я как-нибудь загляну к вам?
— Нет, пожалуйста. Только в воскресенье я буду после суток. — И очень застеснялась свой поспешности.
— В понедельник вас устроит? По выходным я тоже не могу, езжу показываться в место прописки. Надо, чтобы меня там видели.
Это он уже говорил.
— Понимаю. — Она не знала, что еще сказать. — До свиданья. — И вошла в подъезд. Подумала, что надо было поблагодарить его за то, что проводил. Но не возвращаться же. Да и он, наверное, уже ушел.
Когда она на следующий день рассказала Альбине, что этот Яковас ждал ее у проходной, проводил до самого подъезда и попросил разрешения наведаться, Альбина не удивилась.
— Я ж тебе говорила, что он тобой явно заинтересовался. А что не очень молодой — это ничего. Зато не будет заглядываться на других.
Любу это очень смутило. Она уже пожалела, что согласилась, чтобы он пришел. Но как было отказать человеку в его желании узнать что-нибудь о своих родных? А то, что всю дорогу молчал, можно понять — не на ходу же расспрашивать. Ведь сама тоже не спросила о Боре. Но в понедельник обязательно спросит. Только не сразу. Пусть он заговорит первым. И уж потом она спросит, были ли у него в том, советском, лагере друзья. Уточнит свой вопрос тем, что сами они в лагере кто по две, кто по три «держались вместе», то есть норовили работать рядом, на утренних и вечерних «аппелях» становились друг за дружкой, делились воспоминаниями о прежней жизни. А когда одну из подруг во время очередной селекции угоняли в газовую камеру, оставшаяся не сразу примыкала к такой же осиротевшей.
Нет, об этом ему рассказывать ни к чему. Мужская дружба, наверное, проявляется в чем-то другом. Надо ему просто описать, как Боря выглядел. Что он высокий, светловолосый, не похож на еврея. И по-польски говорит без акцента. Может, попав в плен, догадался назваться поляком.
Весь вечер, а потом всю неделю она представляла себе их будущий разговор.
Но он был совсем не таким.
В понедельник этот человек так же, как в прошлый раз, встречал ее у проходной. И так же всю дорогу молчал. Только когда она пригласила его подняться наверх, он, сев на «свою» табуретку, заговорил. Но почему-то о ней.
— Ваша подруга говорила, что из всей семьи вы одна уцелели.
— К сожалению…
— Я вам от всей души сочувствую.
— Спасибо.
— Одиночество очень тягостное чувство.
— Да, очень…
— Может, все-таки есть надежда? Вы не пробовали искать? Через Красный Крест, например. Может, кого-нибудь из ваших освободили англичане или американцы, и они сейчас в одной из европейских стран. Правда, отсюда предпринять такие поиски не очень просто — нынешняя власть не жалует переписку с заграницей. Но иногда эти запросы увенчиваются успехом.
— Что моих родителей нет, я знаю. Папу забрали еще до гетто, во время одной из первых облав на евреев-мужчин. Взяли якобы как заложников, но всех расстреляли. В гетто я была с мамой и сестренкой Сонечкой. В тот день мама заболела и не смогла выйти на работу. Даже подняться не могла. Чтобы ее не обвинили в саботаже, я вышла вместо нее. Случайно была свободна — накануне в нашу мастерскую, я тогда работала в самом гетто, не завезли очередной партии солдатского белья и перчаток для починки. Мамин бригадир — из своих — сделал вид, что не заметил подмены. А когда я вечером вернулась, их не было — ни мамы, ни Сонечки. Оказалось, что днем была очередная акция — так назывались угоны на расстрел — и всех неработающих, даже тех, кто был после ночной смены, забрали.
— Извините, что я вас расстроил. — Он поднялся. — Не буду больше утомлять.
— Нет, ничего. — Она не хотела, чтобы он ушел и она опять осталась одна. — Если вы не спешите…
— Спасибо. — Он опять сел. Но молчал.
Это обоюдное молчание затянулось. И она решилась.
— У вас в немецком лагере, а потом в советском были друзья?
— Мы там все были товарищи по несчастью. Вас интересует кто-нибудь конкретно?
Люба смутилась. Не знала, как назвать Борю.
— Мой давний друг, еще по гимназии. В армию, уже советскую, его взяли незадолго до войны. — Память ее вернула в их прощание, и голос задрожал. — Если попал в плен, мог назваться поляком. Он блондин, не похож на еврея. И по-польски говорит без акцента.
Она умолкла. Поняла, что эти уточнения напрасны, — сидящий напротив нее человек даже фамилии не спросил.
— К сожалению, не могу вас обнадежить. В обоих лагерях, по крайней мере в доступном мне кругу общения, я был единственный еврей. — И поспешил добавить: — Но ваш друг мог оказаться в другом лагере. Их, увы, было много. И тех и других…
Она не решилась ему сказать, что этим же утешала приходивших к ней людей. Ждала, чтобы он наконец спросил о своих.
Но услышала совсем неожиданное:
— Извините меня за не совсем тактичный вопрос. Этот молодой человек, которого вы, очевидно, все еще ждете, ваш жених?
— Н-н-нет. — Не объяснять же ему, что они об этом еще не говорили, хотя подразумевали. И чтобы он больше не спрашивал о Боре и ей не надо было произнести, что его родители получили извещение о гибели сына, поспешила спросить, хотя это уже знала: — А сколько времени вы были в том, советском, лагере?
— Четыре года и два месяца. Столько времени потребовалось, чтобы убедиться, что не мог еврей добровольно сдаться Гитлеру в плен.
В комнате опять повисла гнетущая тишина. Люба уже собиралась спросить, был ли кто-нибудь из его родных в гетто или концлагере, но он опять заговорил совсем о другом.
— Вам, наверное, особенно напоминает прошлое то, что больница, в которой работаете, находится недалеко от бывшего гетто?
— Я и без этого помню. У моей мамы и Сонечки могилы нет. Вернее, я не знаю, у какой из ям их расстреляли. Ведь ямы пусты. Чтобы не оставить даже мертвых свидетелей, их вторично уничтожили. Сожгли. Поэтому хожу к ним в гетто, то есть в бывшее гетто. Только — в сумерках, когда теперешний мирный вид улицы — свет в окнах, цветы на подоконниках — не так мешает вспоминать прошлое.
— А вас не коробит, что после всего этого, даже теперь… Я имею в виду отношение к нам… — Он явно чего-то не договорил. Только вздохнул. — Ведь даже наших убитых лишают национальности. Вы нигде не прочтете и не услышите, что расстреливали и сжигали в печах крематориев евреев. Просто абст-рактных советских граждан. Хотя только евреев убивали за национальность. — Он пристально посмотрел на нее, словно решая, продолжать ли. — Надеюсь, что могу с вами быть откровенным. Это политика. Официальное отношение к нам.
Она боялась даже самой себе признаться, что он прав.
— Но вас же из этого, уже советского, лагеря выпустили.
— Вы, наверное, не только наивный, но и добрый человек. Хоть настрадались, стараетесь не видеть зла.