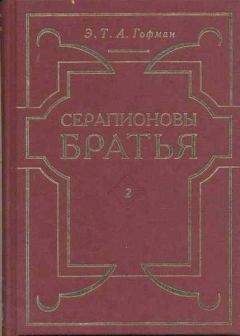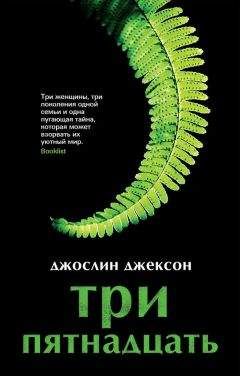Шандор Тот - Как дела, молодой человек?
Под хохот и гром аплодисментов «капелла» повторила программу несколько раз, но многие из ребят уже обступили Живодера. Началось нечто невообразимое: Живодер, словно карточную колоду, тасовал пачку открыток, потом, как фокусник, выхватил одну и поднял ее над головой. Там блистала голая красотка в небрежно наброшенном на плечи манто.
Скорчив безобразнейшую гримасу, Живодер выдал такое, что все просто взбесились.
— Иллюстрации к плакату! Источник материнского молока!
Стены класса дрогнули от рева. Толпа гогочущих лоботрясов плотным кольцом обступила Живодера, и открылся фотобазар. Звуковой плакат распался, но члены «капеллы» с ослиным упрямством продолжали вопить:
— Молоко, молоко! Можно пить без дураков, — и остальное...
Жолдош кричал, чтобы и я купил открытку, но мне не хотелось лезть в свалку.
— Потом,— оказал я.
— Ты что, обалдел? Фараон накроет!
— Ему хочется, чтоб мы вывернули перед ним все свои внутренности: легкие, печенки и селезенки...— с возмущением сказал Петер, щурясь на открытки, которые по одной показывал Живодер.
Лацо в ужасе оторвался от книги.
Бочор — год назад у него изменился голос, и с тех пор он гудит, как из бункера,— услыхав мятежную речь Чабаи, вмешался.
— Меня мутит от этого разбавленного духовного пойла! — заявил он.
Шомфаи держал перед Жолдошем открытку с изображением моющейся женщины, у которой сквозь мыльную пену просвечивали разные разности.
— Вот это бомба! — совершенно спокойно, но с глубоким удовлетворением объявил Жолдош.
Лацо, зажав уши, зубрил историю.
— Да заткнитесь же, наконец! Я совсем не знаю империализма,— жалобно простонал он, услыхав вой Жолдоша, и с отчаянием уткнулся в учебник.
Никто не обратил на него внимания.
В конце перемены, раскидав тех, кто послабее, я протолкался к Живодеру.
— Дай мне одну! — заорал я; голос у меня, однако же, дрогнул, и лицо залилось краской.
Живодер ухмыльнулся и без звука разложил передо мной коллекцию.
— Вот эту! — Я выбрал женщину с распущенными волосами, стоящую на коленях в зарослях камыша,— она была молода и не скрывала своего лица.
Я быстро сунул добычу в карман.
В программе звукового плаката был еще один номер. Под музыку транзистора Живодер и Шомфаи выдали рок, дергаясь и извиваясь, как в пляске святого Витта.
— Фараон на колесах! — раздался сдавленный крик дозорного, и мы молниеносно разбежались.
Транзистор умолк, мы сидели с неподвижными, как у изваяний, лицами. Фараон остановился в дверях и жестом подозвал меня к себе. Я сделал вид, что не понимаю, но притворяться долго смысла не имело, и вообще было ясно, что сегодняшний день добром для меня не кончится. Сейчас начнется допрос: для чего я нарисовал женский бюст... Как любят эти взрослые задавать вопросы, на которые могут прекрасно ответить сами...
Фараон был настроен миролюбиво и, вызвав меня в коридор, попросил зайти к нему домой.
— В понедельник. Хорошо?
Я, само собой, согласился. Но как я ненавижу эти визиты, дьявольски ненавижу! Сегодня еще только пятница. Так что до понедельника у меня есть время поразмыслить.
■
Суббота просто прелесть! Хорошо бы куда-нибудь смыться, да не вышло. По субботам уроков я не учу и развлекаюсь господином Геринцем. Крохотный металлический человечек раздраженно кланяется магниту, потом с торжествующим видом выпрямляется и укоризненно качает головой.
Забава, конечно, пошлая. Но вот я всматриваюсь в блестящую, как зеркало, поверхность стола, где отражается неподвижный господин Геринц, и мне кажется, что нервное напряжение, царящее у нас в доме, заставляет металлического человечка вздрагивать даже без магнита.
Дверь у меня распахнута настежь, но я не решаюсь ее закрыть. Самое время притвориться, как букашка, мертвым.
В проходной комнате взад и вперед возбужденно расхаживает мама. Куда-то она собралась: на ней ее любимое голубое платье, волосы собраны в пучок, глаза пылают, на щеках горят пятна; постукивая кулачками один о другой, она поминутно глядит на часы. В новеньких туфлях на шпильках она ходит, слегка наклонясь вперед, но меня это нисколько не удивляет. Вечно балансировать на таких ходулях — просто фантастика!
Я поднял магнит.
— Кати! — раздался в этот момент голос мамы.— Позвони в управление!
Господин Геринц испуганно отвешивает поклоны.
— Да, мама,— по-военному откликнулась Кати каким-то отсутствующим голосом. Потом просунула голову в мою комнату.— Андриш! Ты не видел косынки в горошек?
Я показал ей на телефон — иначе будет скандал,— но Кати выдвигала и задвигала ящики стола, пока снова не раздался раздраженный мамин голос:
— Зачем тебе косынка? Делай, что я велела!
— А мне нужно для репетиции. Скоро придут девочки,— пояснила Кати.
Наконец она сняла трубку, но, по-моему, весьма неохотно. Мы все трое прекрасно знали, что папы в управлении уже нет. Мама просто лезла в бутылку и телефонным звонком взвинчивала себя еще больше.
— Что спросить?
— Что, что! Спроси, там ли еще отец! Ведь уже пять часов.
Кати набрала номер.
— Целую руку, тетя Гизи,— сказала она.— Говорит Кати Хомлок. Скажите, пожалуйста, папа уже ушел? Давно? А он не сказал, куда?
— Кати! — в ужасе крикнула мама.— Ты с ума сошла? Положи трубку!
— Да, да. Спасибо, тетя Гизи,— заикаясь, проговорила сестрица, и послышался щелчок аппарата.
— Разве я велела допытываться, куда он ушел? Я велела спросить, там ли еще отец! На тебя даже в этом нельзя положиться.
— Он поехал в Уйпешт! — пожимая плечами, сообщила Кати.
— В Уйпешт! В субботу после обеда! Мы собирались в гости, а он поехал в Уйпешт!
Мама опять начала расхаживать — и я прикрыл дверь.
Но тут снова ворвалась Кати и снова дверь не закрыла. А, плевать! Закрывай не закрывай — все равно слышно. Ой-ой-ой! Ну и матч предстоит сегодня!
— Ты не видел косынки в горошек? — Кати, глядя на меня, сконфуженно мигала.
— Видел. Собственными глазами.
— Где?
— На площади Сена. Два мильтона тащили ее в отделение.
— Перестань паясничать! Мне нужна косынка. Сейчас придут Жужа Гал и Мацо Шипош.
— Как нельзя более кстати. Дамы будут иметь удовольствие присутствовать при чудесном спектакле.
Кати тяжело вздохнула и повалилась на тахту.
■
К шести часам, когда явился родитель, мама дошла уже до второй стадии истерики.
Папа сразу почувствовал, что пахнет порохом, и самым задушевным голосом спросил, какие новости и что делаем мы, его отпрыски.
Мама, как водится, не ответила.
На все папины вопросы она предпочитала выкрикивать, что уже седьмой час.
Наконец папа сообразил. Он до последней минуты работал, и Зойоми у него просто вылетели из головы; ничего страшного, сейчас он им позвонит, извинится и скажет, что сегодня они с мамой не придут. Он устал, как собака, и вообще лучше к ним не ходить.
— Почему? — спросила мама.
Мы с Кати прислушивались к маминому голосу. У Кати даже округлились глаза. Но я лишь махнул рукой: спокойно! Матч еще не окончен.
Папа ответил что-то вроде того, будто у директора рыльце в пушку и скоро выяснится, кто его друзья.
Такое странное заявление мама оставила без ответа, лишь заметила, что как раз из-за этого она целый день волновалась.
Потом прошла в свою комнату и захлопнула дверь.
Папа позвонил Зойоми, сказал, что они не придут, и пошел к маме.
Там начался следующий раунд — папа рассказывал, как ему удалось найти сверхурочную работу.
— В Уйпеште? — спросила мама.
Тут папа обиделся. У мамы только и дела, что «шпионить» за ним и ставить его в неловкое положение. И опять, неизвестно откуда, на свет вылезли новые туфли.
— Я ни на что не имею права. Я отнесу их назад, раз тебе так хочется! — крикнула мама, и что-то грохнуло об пол два раза.
— Ты всегда передергиваешь! Дело не в туфлях... хотя сейчас конец месяца... Могла бы и подождать... Я хочу одного: немного покоя!
— Вот как! А мне, по-твоему, не нужен покой? Скажи, Шандор, неужели я все должна терпеть? Ведь от тебя разит на весь дом...
- Что ты сказала? Чем разит?
- Чужими духами... Ты весь пропитался ими! - крикнула мама.
- Нет, с меня хватит! Противно возвращаться домой! Если б не дети...
- Пожалуйста! Можешь уйти!
Дважды хлопнули двери, возвестив, что мама вихрем пронеслась по квартире и вылетела в кухню плакать.
На Кати я не смотрел: она страшно боится, чтобы кто-нибудь из них действительно не ушел.
Когда я наконец решился заговорить, голос у меня был совершенно хриплый:
- Не волнуйся! Он не посмеет уйти.
Кати с сомнением всматривалась в мое лицо, и я чувствовал себя довольно мерзко.
- Говорят тебе, что он не уйдет,- значит, не уйдет. Не посмеет уйти. Да и мама этого вовсе не хочет.
По правде сказать, опасаться особенно было нечего. Сегодня они поругались, завтра он принесет ей цветы, а нам кучу подарков. И мама вовсе не хочет, чтоб он уходил, но вот заведется и твердит: «Уходи!» - будто бес в нее вселился. Но тон у нее такой, словно она угрожает: вот уйдешь - и все мы погибнем. И папа это прекрасно знает. Пусть он резкий, несдержанный, но он и не думает нас бросать.