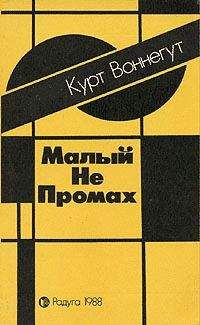Курт Воннегут - Синяя борода
В полдень я, как обычно, спустился на пляж окунуться, а там на песке – она, одетая с ног до головы. Сидит, уставившись на море, ну точь-в-точь, как Пол Шлезингер, он так часами просиживает. Ну и ладно, только вот при моем нелепом телосложении я предпочитаю купаться один, без посторонних, главное же, спускаясь на пляж, я снял с глаза повязку. А под ней – месиво, прямо яичница-болтунья. Лучше не смотреть. Я был в замешательстве. Пол Шлезингер, между прочим, говорит, что чаще всего состояние человека можно передать всего-навсего одним словом: замешательство.
* * *
В общем, я решил не купаться, а так, позагорать на некотором расстоянии от нее.
Но все-таки приблизился ровно настолько, чтобы сказать: «Здрасьте».
А она ни с того ни с сего:
– Расскажите, как ваши родители умерли.
Ничего себе! У меня по спине мурашки побежали! Не женщина, а колдунья какая-то! Не будь она колдунья, разве удалось бы ей меня уговорить за автобиографию взяться?
Вот сейчас заглянула ко мне в комнату и напомнила, что мне пора отправляться в Нью-Йорк, куда я не ездил с тех пор, как умерла Эдит. Вообще не помню, чтобы я с тех пор куда-нибудь ездил.
– Привет, Нью-Йорк, вот и я. Жуть какая!
* * *
– Расскажите, как ваши родители умерли, – говорит.
Я ушам своим не поверил.
– Простите? – говорю.
– Что толку-то в этом вашем «здрасьте»? – заявила она.
Сразу заставила меня переменить тон.
– Лучше, чем ничего, мне так всегда казалось, – объясняю, – но, может, я и не прав.
– Что это значит – «здрасьте»? – спрашивает.
– Ну, я приветствую вас, здравствуйте, как еще сказать?
– Ничего подобного, – отвечает. – Это значит: не заговаривайте ни о чем серьезном. Это значит: я вам улыбаюсь, но дела мне до вас нет, так что проваливайте.
И еще, и еще, надоело, мол, ей, когда пустыми словами отделываются, вместо того, чтобы по-настоящему познакомиться.
– Так что присаживайтесь и расскажите мамочке, как умерли ваши родители.
Мамочке! Вот это да – «мамочке»!
У нее прямые черные волосы и большие карие глаза, как у моей покойной матери, но ростом она гораздо выше. Честно говоря, даже немножко выше, чем я. И фигура гораздо стройнее, чем у мамы, которая с годами изрядно растолстела и не очень-то следила, как выглядит, как одевается. Не следила, потому что отцу было все равно.
И я рассказал миссис Берман о матери:
– Она умерла, когда мне было двенадцать лет, – от столбняка, который, очевидно, подхватила, работая на консервной фабрике в Калифорнии. Консервную фабрику построили на месте бывшей конюшни, а в кишечнике лошадей – им-то это безвредно – часто поселяются бактерии столбняка и образуют долгоживущие споры, такие крохотные бронированные семена, которые в экскрементах видны. Одна из спор, затаившаяся в грязи под конюшней, была каким-то образом эксгумирована и отправилась путешествовать. Спала себе, спала и пробудилась в раю – все мы о таком мечтаем. А раем для нее был порез на руке моей матери.
– Прощай, мамочка, – сказала Цирцея Берман.
Опять «мамочка»!
– Ладно, зато ей не пришлось пережить Великую депрессию, которая началась год спустя, – сказал я.
И зато она не видела, что ее единственный сын вернулся с войны одноглазым циклопом.
– А как умер отец? – спросила миссис Берман.
– В кинотеатре «Бижу» в Сан-Игнасио, 1938 год, – сказал я. – Он ходил в кино один. О новой женитьбе и не думал даже. Так и жил себе в Калифорнии над лавчонкой, с которой когда-то начал внедряться в экономику Соединенных Штатов. А я уже лет пять как жил на Манхеттене, работал художником в рекламном агентстве. Фильм кончился, зажегся свет, и все ушли домой, Все, кроме отца.
– А какой был фильм? – спросила она. И я ответил:
– «Отважные капитаны» со Спенсером Треси и Фредди Бартоломью в главных ролях.
* * *
Бог знает, что отец мог извлечь из этого фильма о рыбаках, ловивших треску в Северной Атлантике. Может, он и увидеть-то ничего не успел, умер сразу. А если посмотрел хоть немножко, то получил, наверно, горькое удовлетворение от того, что происходившее на экране не имело решительно никакого отношения ни к чему и ни к кому из его жизни. Ему нравились любые свидетельства того, что планета, которую он знал и любил в юности, исчезла безвозвратно.
Так он чтил память родных и друзей, погибших во время резни.
* * *
Он, можно сказать, стал сам себе турком здесь, в Америке, в грязь себя втоптал и плевал себе в лицо. Мог ведь выучить английский и сделаться уважаемым учителем в Сан-Игнасио, или снова за стихи бы принялся, или, допустим, переводил бы своих любимых армянских поэтов на английский. Но такое – не унизительно, а ему надо было унизить себя. Надо ему было – с его-то образованием – стать тем же, чем его отец и дед были, сапожником то есть.
Он был очень искусен в этом ремесле, которому выучился мальчишкой и которому мальчишкой выучил и меня. Но как же он сетовал на судьбу! Хорошо хоть, что причитал по-армянски, и, кроме нас с матерью, никто его не понимал. Мы были единственными армянами миль на сто вокруг в Сан-Игнасио.
– Я обращаюсь к Уильяму Шекспиру, величайшему вашему поэту, – приговаривал он, работая, – вы-то когда-нибудь слышали о нем? – Сам он знал Шекспира в переводе на армянский вдоль и поперек и часто читал его наизусть. «Быть или не быть…», например, у него звучало: «Линел кам шлинел…»
– Вырвите мне язык, если услышите, что я говорю по-армянски, – мог и такое сказануть. В семнадцатом веке турки наказание такое придумали каждому, кто говорил не по-турецки, – язык вырывали.
Что за люди кругом, сам я что здесь делаю? – недоумевал он, глядя на проходящих мимо ковбоев, китайцев и индейцев.
– Пора бы уже в Сан-Игнасио воздвигнуть памятник Месропу Маштоцу! – иронизировал он. Месроп Маштоц, живший примерно за четыреста лет до Рождества Христова, создал армянский алфавит, совершенно не похожий на другие алфавиты. Армяне, кстати, были первым народом, который сделал христианство своей государственной религией.
– Миллион, миллион, миллион, – повторял он. Считается, что турки миллион армян убили в ту резню, когда моим родителям удалось спастись. То есть, две трети армян, живших в Турции, и около половины армян во всем мире. Сейчас нас около шести миллионов, включая двух моих сыновей и трех внуков, которые о Месропе Маштоце ничего не знают и знать не хотят.
– Муса Дах! – восклицал он. Так называлось местечко в Турции, где горстка армян – мирных жителей сорок дней и ночей противостояла турецким солдатам, пока не была истреблена полностью – примерно в то время, когда мои родители – со мной в мамином животе – целые и невредимые добрались до Сан-Игнасио.
* * *
– Спасибо, Вартан Мамигонян, – любил он повторять. Так звали армянского национального героя, возглавившего войско армян в проигранной войне с персами в пятом веке. Но тот Вартан Мамигонян, которого имел в виду отец, был обувным фабрикантом в Каире, шумной многоязычной столице Египта, куда, спасаясь от резни, бежали мои родители. Этот человек, сам еле уцелевший в какой-то резне, уверил моих наивных родителей, которых случайно встретил на пути в Каир, что они увидят улицы, мощенные золотом, если только доберутся – куда бы вы думали? – в Сан-Игнасио, штат Калифорния. Но об этом я потом расскажу.
– Может, и раскусишь, что такое жизнь, только уже слишком поздно, – говорил он. – Мне теперь все равно.
– Не теряйте надежды, друзья, за бедою приходит удача, – напевал он. Это, сами знаете, из американской песни «Дом на ранчо», он слова перевел на армянский. Считал их дурацкими.
– И Толстой тачал сапоги, – любил он повторять. И правда: величайший русский писатель и идеалист, стараясь заняться каким-то, как ему казалось, стоящим делом, одно время тачал сапоги. Позволю себе заметить, что я тоже могу тачать сапоги. Если понадобится.
* * *
Цирцея Берман говорит, что может брюки сшить, если понадобится. Когда мы познакомились на берегу, она рассказала, что у отца ее была брючная фабрика в Лакаванне, штат Нью-Йорк, но потом он разорился и повесился.
Если бы мой отец не умер на «Отважных капитанах» со Спенсером Треси и Фредди Бартоломью в главных ролях и увидел написанные мною после войны картины, из которых кое-какие привлекли серьезное внимание критиков и были проданы за недурные по тем временам деньги, он бы уж точно, как большинство американцев, презрительно фыркал и глумился над ними. Высмеивал бы, разумеется, не меня одного. Высмеивал бы и моих собратьев по кисти, абстрактных экспрессионистов Джексона Поллока, Марка Ротко1, Терри Китчена и других, которые, не в пример мне, теперь признаны величайшими художниками не только Америки, но и всего этого мира, черт бы его подрал. Но мне-то одно вонзается в голову как шип, хоть много лет я об этом и не задумывался: он бы не колеблясь глумился над собственным сыном, надо мной, значит.