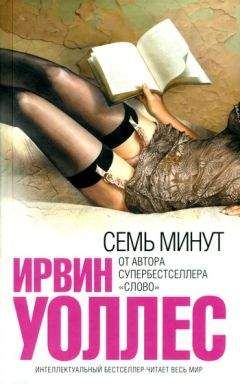Ирвин Шоу - Три месяца
Далеко в горах раздался глухой взрыв, и Констанс удивленно подняла голову.
— Что это?
— Пушки, — ответил Причард. — Прошлой ночью шел снег, и сегодня солдаты целый день стреляют по снежным глыбам. Чтобы они обвалились.
Снова прокатился неясный гул, они остановились и стали слушать, как замирает эхо.
— Как в старые добрые времена, — сказал Причард, когда они пошли дальше, — старые добрые времена, когда была война.
— О… — Констанс никогда раньше не слышала, как стреляют пушки, и сейчас ей было немного не но себе. — Война. Вы тоже воевали?
— Воевал, — он усмехнулся. — Так, самую малость.
— Что же вы делали?
— Я был ночным истребителем, — ответил Причард, поправляя на плечах сложенные хомутом лыжи. — Летал на гнусном черном самолете по гнусному черному небу. Знаете, что мне больше всего нравится в швейцарцах? То, что они стреляют только по снегу.
— Ночной истребитель, — задумчиво повторила Констанс. Ей было всего двенадцать лет, когда кончилась война, н в памяти у нее сохранились только смутные, неясные обрывки. Так бывает, когда тебе рассказывают о классе, который кончил школу за два года до тебя. Люди постоянно называют имена, даты и события, думая, что тебе они тоже известны, а ты так и не можешь разобраться в них до конца.
— Мы летали над Францией и работали по перехвату, — продолжал Причард. — Летали на бреющем, чтобы не засекли радары и не подбили зенитки. Мы кружим над аэродромом, а необстрелянные новички просто места себе не находят, не чают дождаться, когда же наконец машины выпустят шасси и пойдут на посадку.
— О, теперь я вспомнила, — решительно сказала Констанс, — вы ели морковь, чтобы лучше видеть ночью.
Причард расхохотался.
— Это в газетах мы ели морковь, а на самом деле у нас были локаторы. Засечешь немца на экране и начинаешь стрелять, как только становится видно пламя выхлопной струи. Нет уж, пусть другие едят морковь, а мне дайте радар.
— И много самолетов вы сбили? — спросила Констанс, думая, что, может быть, не нужно говорить об этом.
— Grüezi, — сказал Причард хозяину pension’a, который стоял у двери и глядел на небо, решая, пойдет ли ночью снег. — К утру будет двадцать сантиметров. Снежная пыль.
— Вы думаете? — спросил тот, с сомнением вглядываясь в вечернее небо.
— Гарантирую,
— Вы очень любезны, — сказал хозяин, улыбаясь. — Приезжайте в Швейцарию почаще, — и он вошел в свой pension и закрыл за собой дверь.
— Пару, — сказал Причард небрежно. — Мы сбили пару самолетов. Поведать о своих подвигах?
— На вид вы так молоды.
— Мне тридцать лет, — ответил Причард. — Да много ли должен человек прожить, чтобы сбить самолет? Особенно жалкую, тянущуюся на последних каплях горючего пассажирскую тарахтелку, битком набитую священниками и тыловиками, которые каждую минуту протирают очки и думают, зачем только была изобретена эта проклятая машина.
Они снова услышали далекие голоса пушек в горах, и Констанс захотелось, чтобы больше не стреляли.
— Вам никогда не дашь тридцати, — сказала она.
— Я веду простой и полезный для здоровья образ жизни. Стоп, — сказал он (в эту минуту они проходили мимо одного из маленьких отелей), положил лыжи на подставку и воткнул палки в снег рядом. — Давайте зайдем и выпьем по простой и полезной для здоровья чашке чая.
— Вы знаете, — начала Констанс, — я…
— Сократите сегодняшнее письмо на две страницы, но вложите в него побольше пыла. — Он мягко, почти не касаясь, взял ее под руку и повел к двери. — А на волосы наведете блеск как-нибудь в другой раз.
Они прошли в бар и сели за массивный резной деревянный стол. Кроме них, здесь не было пи одного лыжника, только несколько местных жителей, сидя за покрытым сукнам столп ком у стены, где висели рога серпы, мирно играли в карты и пили кофе из плоских бокалов на высоких ножках.
— Ну, что я вам говорил, — сказал Причард, снимая шарф. — В этой стране просто деваться некуда от швейцарцев.
Подошел официант, и Причард сказал ему что-то по-немецки.
— Что вы заказали? — спросила Констанс, догадавшись, что он просил принести не только чай.
— Чай с лимоном и черный ром.
— Вы думаете, мне тоже стоит выпить рому?
— Ром стоит пить всем без исключения. Он поможет вам удержаться от самоубийства в сумерки.
— Вы говорите по-немецки?
— О, я говорю на всех мертвых языках Европы, — ответил он. — По-немецки, по-французски, по-итальянски, по-английски. Я получил всестороннее образование для мира обменной валюты. — Он откинулся на спинку стула, растирая ладонью суставы пальцев, чтобы согреть руки. Прислонившись затылком к деревянной напели стены, он улыбнулся Констанс, и она не могла решить, хорошо ей или нет. — А теперь скажите: «Хи-хо, малыш!»
— Что? — растерялась она.
— Разве и Америке так не говорят? Я хочу усовершенствовать свое произношение для следующего нашествия.
— Нет, — ответила Констанс, думая: «Господи, какой он нервный. Интересно, что с ним было, почему он стал таким?» — Больше не говорят. Это сейчас уже не модно.
— Как быстро в вашей стране выходит из моды все стоящее, — сказал он с сожалением. — Возьмите швейцарцев, — он кивнул головой в сторону игравших в карты. — Эта игра идет у них с 1910 года. Здесь так безмятежно, как будто живешь на берегу озера. Конечно, мало кто может вынести такую жизнь. Помните шутку о швейцарцах из той картины о Вене?
— Нет. Из какой картины? — спросила Констанс и подумала: «Первый раз в жизни я назвала фильм картиной. Осторожно!».
— Один из героев говорит: «Швейцария не воевала сто пятьдесят лет. И что она дала миру? Часы с кукушкой». Не знаю, — Причард пожал плечами. — Может быть, лучше жить в стране, которая изобретает часы с кукушкой, а не радар. Маленькая забавная игрушка, которая каждые полчаса издает безобидный механический звук. Что ей время? Но для тех, кто изобретает радар, время — грозный фактор, для них оно разница между высотой полета и расположением батареи, которая должна тебя сбить. Радар нужен тем, кто никому не верит и всюду видит ловушку. А вот и чай. Как видите, я вовсю стараюсь развеселить вас, потому что наблюдаю за вами уже пять дней и вы производите впечатление девушки, которая несколько раз в неделю обязательно плачет по ночам.
— Сколько его нужно налить? — спросила Констанс, совершенно сбитая с толку потоком его слов. Она дожала в руке ром и старательно избегала смотреть на Причарда.
— Половину, — ответил он. — Чтобы осталось для второй чашки.
— Хорошо пахнет, — сказала Констанс, вдыхая пар, поднимающийся из чашки, после того как она вылила туда половину рома и выжала лимон.
— Может быть… — Причард приготовил чан для себя, — может быть, мне лучше говорить о чем-нибудь постороннем?
Пожалуй, так будет лучше, — ответила она.
— Тот парень, который получает ваши письма, — спросил Причард, — почему он не здесь?
Констанс на миг заколебалась.
— Он работает.
— О, это серьезный порок. — Он сделал несколько глотков, поставил чашку и вытер нос платком. — У вас так тоже бывает от горячего чая?
— Да.
— Вы собираетесь за него замуж?
— Вы же обещали говорить только о постороннем.
— Ясно. Значит, это дело решенное.
— Я этого не говорила.
— Правильно. Но вы сказали бы «нет», если бы я не угадал.
Констанс засмеялась.
— Ну хорошо. Решенное. По крайней мере почти решенное.
— Когда?
— Через три месяца, — ответила она, не подумав.
— Это что, в Нью-Йорке такой закон, что нужно ждать три месяца? Или просто маленькое семейное табу?
Констанс молчала, вдруг почувствовав, как давно она пи с кем по-настоящему не говорила. Опа заказывала обеды и ужины, спрашивала, как ей проехать с вокзала, говорила «доброе утро», входя в магазины, но, если не считать всего этого, она жила в полном одиночестве и молчании, и оттого, что она сама была в этом виновата, ей было не легче. А почему бы и нет, подумала она эгоистично и с благодарностью, почему бы не рассказать обо всем один раз?
— Так захотел мой отец, — сказала она, сминая бумажный стаканчик. — Это он придумал. Он против. Он сказал: подожди три месяца и подумай. Ему кажется, что за три месяца в Европе я забуду Марка.
— Да, Америка, — протянул Причард. — Единственное место на земле, где люди могут позволить себе старомодные поступки. А чем плох Марк? Он что, урод?
— Он красивый. Грустный и красивый.
Причард кивнул, как бы беря все это на заметку.
— Но нет денег?
— Денег сколько угодно, — сказала Констанс, — во всяком случае, у него хорошая работа.
— В чем же тогда дело?
— Отец считает, что он слишком стар для меня. Ему сорок лет.
— Да, тут есть над чем задуматься. Поэтому он грустит?