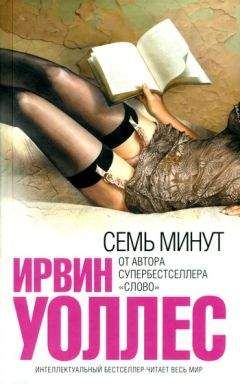Ирвин Шоу - Три месяца
— Да, — сказала Констанс, — я спрашивала в бюро путешествий в Париже.
— О! И что же вам там сказали?
— Что все здесь всерьез занимаются лыжами и ложатся спать в десять часов.
Англичанин быстро взглянул на нее.
— А вы занимаетесь лыжами не всерьез?
— Нет, я всего раза два-три стояла на лыжах до этого.
— А вы не…?
— Что? — Она с недоумением поглядела на него.
— Ну, в рекламах, знаете — «Школы для детей со слабым здоровьем. Швейцария — страна для больных туберкулезом».
Констанс засмеялась.
— Разве похоже, что у меня туберкулез?
Оп серьезно посмотрел на нее, и Констанс показалось, что она толстая и развязная и что свитер слишком плотно обтягивает ее грудь.
— Нет, не похоже. Да ведь кто угадает? Вы читали «Волшебную гору»?
— Да, — ответила Констанс, чувствуя гордость оттого, что она не так уж невежественна, хотя и очень молода и приехала из Америки. Она помнила, что пропускала философские рассуждения и плакала над смертью сестры. — Да, читала. А что?
— Здесь недалеко санаторий, о котором там написано. Я его вам как-нибудь покажу, когда будет плохой снег. Вам не кажется, что здесь грустное место?
— Пет, — ответила она удивленно. — Почему грустное?
— Да некоторым так кажется. Из-за контраста. Чудесные горы, сильные, здоровые лыжники мчатся вниз сломя голову и ног под собой не чуют от радости, хоть и знают, что каждую секунду могут сорваться в пропасть, и тут же томятся люди с больными легкими, смотрят на них и гадают, удастся ли им когда-нибудь выбраться отсюда живыми.
— Знаете, я об этом никогда не думала, — честно призналась Констанс.
— Сразу после войны было хуже, — сказал он. — Сразу после войны здесь начался бум. Все, кому пришлось голодать, скрываться или сидеть в тюрьме, кто так долго жил в страхе…
— Где же все они сейчас?
Причард пожал плечами.
— Кто разорился, кто и по сей день напрасно ищет работу, кто умер… — сказал он. — А правда, что в Америке люди отказываются умирать?
— Да, — ответила Констанс. — Это значит признать себя побежденным.
Он улыбнулся и похлопал ее по руке в перчатке, которой она крепко держалась за среднюю перекладину.
— Не сердитесь, что мы так завистливы, — сказал он. — Ведь только так мы и можем проявить свою признательность.
Оп мягко оторвал ее пальцы от дерева.
— II не нужно так напрягаться, когда вы на лыжах. Даже пальцы нельзя сжимать. Даже брови нельзя хмурить, пока не пойдете пить чай. Легкость, свобода и отчаянная уверенность — вот что главное.
— И вам все это удается?
— В основном отчаяние.
— Но что же вам тогда делать на этом спуске для начинающих? Почему вы не подниметесь на ту вершину?
— Я вчера растянул лодыжку, — ответил Причард. — Переоценил себя. Что делать, февральская болезнь. Потерял управление и с блеском свалился в овраг. Так что сегодня я способен только писать медленные величественные дуги. Но завтра мы снова пойдем на приступ, — он протянул руку к вершине, до половины скрытой в тумане, над ней мокрым пятном расплывался тусклый круг солнца, и от этого вершина казалась грозной и опасной. — Пойдем? — Он вопросительно посмотрел на нее.
— Я еще но была там ни разу, — сказала Констанс, почтительно разглядывая гору. — Боюсь, она пока еще не для меня.
— Нужно всегда делать то, что пока еще не для тебя, — сказал он. — Па лыжах. Иначе пропадает все удовольствие.
Они помолчали немного, медленно подымаясь вверх. Ветер дул им в лицо, и все вокруг было залито тихим туманным светом, какой бывает только в горах. Впереди них ярдах в двадцати ехала девушка в желтой парке, похожая на яркую покорную куклу.
— Итак, что же Париж? — спросил Причард.
— Что? (Он все время перескакивает, подумала Констанс, немного растерявшись.)
— Вы сказали, что приехали из Парижа. Значит, вы из тех симпатичных людей, что приезжают сюда оставить нам денежки вашего правительства?
— Нет, — ответила Констанс. — Я приехала сюда… приехала просто отдохнуть. Вообще я живу в Нью-Йорке. А от французской кухни я просто чуть не умерла.
Оп оглядел ее критически и сказал:
— Вы очень мало похожи на умирающую. Вы похожи на девиц из американских журналов, которые рекламируют мыло и пиво. Беру свои слова обратно, если в вашей стране это считается оскорблением, — добавил он поспешно.
— А какие в Париже мужчины!
— О, в Париже есть мужчины?
— Они всюду преследуют тебя, даже в музеях. Разглядывают с ног до головы, будто оценивают. И все это среди картин религиозного содержания.
— Я знал одну девушку, — сказал Причард, — она была англичанка. В сорок четвертом году ее от Прествика — это в Шотландии — до самого Корнуолла преследовал американский пулеметчик. Три месяца. Впрочем, насколько мне известно, картины религиозного содержания там не фигурировали.
— Вы знаете, о чем я говорю. Вся эта развязность… — строго сказала Констанс.
Она видела, что он с самым невозмутимым видом потешается над ней, как это умеют англичане, и не знала, следует ей обидеться или нет.
— Вы воспитывались в монастыре?
— Нет.
— Многие американские девушки рассуждают так, будто воспитывались в монастыре. А потом вдруг оказывается, что они хлещут джин и устраивают скандалы в барах. Что вы делаете по вечерам?
— Где, дома?
— Нет. Что американцы делают по вечерам, я знаю. Они смотрят телевизор, — сказал он. — Я спрашиваю, что вы делаете здесь?
— Я… я мою голову, — сказала она с вызовом, чувствуя, как это глупо. — Пишу письма.
— Сколько вы еще здесь пробудете?
— Шесть недель.
— Шесть недель. — Он кивнул и перекинул палки на другую сторону, потому что они уже подъезжали к вершине. — Шесть педель чистейших волос и корреспонденции.
— Я обещала, — сказала она, решив, что, может быть, стоит сказать ему обо всем, а то он вдруг заберет себе что-нибудь в голову. — Я обещала одному человеку писать каждый день, пока меня нет.
Причард кротко кивнул, как будто сочувствуя ей.
— Да, американцы, — сказал он, когда подъемник остановился и они спрыгнули на площадку. — Порой они ставят меня в тупик. — Оп помахал ей палками и ринулся вниз, и красный свитер его яркой точкой замелькал на белом с синими тенями снегу.
Солнце скользнуло в просвет между двумя вершинами, как золотая монета в щель гигантского автомата. Все казалось плоским в его обманчивом свете, и ухабы были почти неразличимы. Съезжая вниз, Констанс упала два раза и теперь суеверно думала, что обязательно упадет еще, — так всегда бывает, стоит только сказать себе, что едешь в последний раз.
Опа остановилась на утоптанном снегу между двумя шале, стоящими на окраине города, и с облегчением сбросила лыжи. У нее замерзли пальцы на руках и ногах, но вообще ей было тепло, щеки горели, и она радостно вдыхала чудесный холодный и немного разреженный горный воздух. Опа чувствовала себя сильной и здоровой и весело улыбалась лыжникам, которые останавливались рядом с ней, гремя лыжами. Опа стряхивала приставший к костюму, когда она падала, снег, чтобы все считали ее настоящей лыжницей, когда придется идти по городу, и в это время Причард, взлетев на последнем трамплине, с шумом остановился возле нее.
— А я видел, — он наклонился отстегнуть крепления. — Видел, но не скажу ни одной живой душе.
Констанс в последний раз смущенно провела рукой по ледяным кристалликам на парке и сказала:
— Я упала всего четыре раза за весь день.
— Там, наверху, — оп кивнул в сторону горы, — вы будете завтра летать в снег целый день.
— Я не говорила, что пойду с вами.
Она застегнула ремешком сложенные лыжи и стала устраивать их у себя на плече. Причард протянул руку и взял у нее лыжи.
— Я и сама умею носить лыжи.
— Американки почему-то всегда проявляют твердость характера, когда дело не стоит выеденного яйца.
Он уложил две пары лыж у себя на плечах под углом, и они пошли по грязному, утоптанному снегу, скрипевшему под их ботинками. В городе зажглись огни, совсем бледные в гаснущем свете дня. Мимо них прошел почтальон; большая собака вместе с ним тащила его сани. Шесть ребятишек в лыжных костюмах съехали но круто спускающемуся вниз переулку на связанных цугом салазках и, звонко хохоча, вывалились в снег у самых их ног. Большая рыжая лошадь медленно протащила к станции три огромных бревна. Несколько стариков в голубых парках сказали «Grüezi», поравнявшись с ними. Зажав коленями бидон с молоком, мимо вихрем пронеслась на маленьких салазках служанка из какого-то домика наверху. На катке играли французский вальс, звуки музыки сливались со смехом детей, звоном колокольчика на дуге у лошади и далекими ударами старинного колокола на вокзале, где отходил поезд. «Пора», — говорил колокол, пробиваясь сквозь другие звуки.