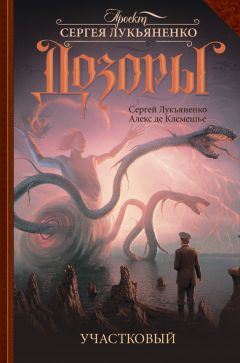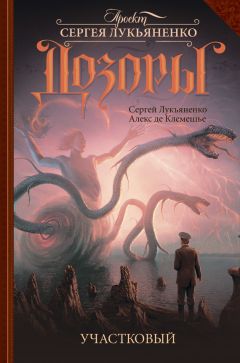Сергей Смирнов - Эвтанатор (Записки врача)
Значит, нужен был один хлористый калий — а уж его в тогдашних аптеках выдавали хоть ведрами. Штука-то вполне безобидная, но в умелых руках…
В общем, через пару дней я приготовил мензурку с раствором, и теперь оставалось лишь ждать подходящего случая.
* * *
Кошку, конечно, было жаль. Она от прежних хозяев осталась.
Ленивая и пакостная тварь, надо сказать. Как ни придешь с работы — что-нибудь да натворит. То нагадит на ковер, то на плинтус (аж обои лохмами — затирала свою мочу, гадина), а однажды заварочный чайник сбросила со стола и расколотила.
Чайника было особенно жаль — литровый, я его из Казахстана привез.
Короче говоря, надумал я совершить научный эксперимент.
Орала она, и царапалась, правда — чуяла, о чем речь идет.
Пришлось заклеить морду и лапы лейкопластырем. Шприца не пожалел — вколол двадцать пять кубиков. Ноль эмоций. Только извивается на половике и на меня косится налитым кровью глазом. Я подождал-подождал — и вколол еще двадцать пять. Сам включил телевизор. Закурил, лежа на диване. И задремал.
Только слышу — странные звуки какие-то. Я не сразу и понял.
Глаза разодрал — батюшки! Из кухни, сокращаясь червяком, ползет это несчастное животное, и мычит почти человеческим голосом. Кончик языка вылез из-под лейкопластыря, и пена лезет. Подползла — у меня, честно скажу, мурашки по коже — еще раз взглянула мне в душу. И околела.
Я завернул ее в газету, газету положил в целлофановый пакет.
Вынес и положил в мусорный бак. Хоть и вредная была кошара, а все-таки жаль. Мученица науки.
Я в ту ночь гулять ушел. Весна была, ночи становились все короче. Я дошел до Гражданки, свернул на Непокоренных, потом на Кондратьевский, доехал на трамвае до Финляндского вокзала, и оттуда — на Арсенальную и прошел на Пироговскую. Было очень поздно, но на набережных кучковался народ, гуляли парочки.
Дошел до гостиницы «Ленинград». И там ко мне привязалась проститутка.
Не то, чтобы привязалась — ее, кажется, из гостиницы выкинули.
Юбка грязная, фингал под глазом, размалеванная.
— Чего уставился? — спросила она, поднимаясь. — Не видал, что ли?
Я всякое видал. И отвернулся. В реке отражались огни стоявшей у противоположного берега «Авроры». Неподалеку веселились иностранцы, орали, пили из горлышек экспортную водку из граненых бутылок и пробовали материться по-русски. А потом одна дама присела на парапет — помочиться. Ее держали за руки, с визгом и хохотом.
Я сразу вспомнил рассказ моих блокадников, и мне стало тошно.
Менты от гостиницы глупо ржали, не вмешиваясь. Ну как же, гости города! Полные карманы долларов — кто же их тронет?
Другое дело — наша малолетняя давалка…
— Ты откуда? — спросил я, поворачиваясь к ней. Она стояла у парапета, пытаясь стереть грязь с коротенькой белой юбочки.
— А тебе чего?
— Так, — сказал я. Кивнул в сторону веселой кампании. — Вон те, видать, из Финляндии…
— Гады, жмоты, жлобы немые! — ругнулась проститутка. Потом покосилась на меня: — Курить хочешь?
Я кивнул. Она достала из кармана кожаной курточки «Мальборо».
Мы закурили.
— Вообще-то я из Вологды, — сказала она через некоторое время.
Я молчал, пускал дым в сторону кампании, удалявшейся по набережной Фокина.
— Ну, не из самой… Из Сокола… — она повернулась ко мне. — Город такой — может, слышал?
Я покачал головой.
— Ну, не из самого Сокола… — неуверенно сказала она. И замолчала. Я разглядел ее получше. Годов неопределенных — в смысле, от пятнадцати до двадцати пяти, под краской не видно. Одежка вроде модная, а значит, дорогая. Слегка обкуренная.
Я докурил, сказал:
— Клиент сорвался?
Она неохотно ответила:
— Ну… Да так себе клиент, трепло, да еще педик. И небогатый, видно. Спустил штаны и бегал с голой задницей по номеру. Он думал, я возбуждаюсь, а я со смеху помирала.
— А много тебе платят?
— Заплатить, что ли, хочешь? — покосилась она на меня.
— Ну… смотря сколько.
Она махнула рукой, сплюнула.
— Куда тебе…
— Зря, — я покачал головой. — Не гляди, что я по-простому одет. Может, я прибедняюсь, а дома — чемоданы с деньгами.
Она округлила было глаза, потом засмеялась. Смеялась, пока тушь не потекла.
— А ты где живешь-то?
— В районе Гражданки.
— Далеко…
— Не пешком же…
Она подумала.
— Вообще-то, мне отработать надо. А то завтра эти волки сюда не пустят, — она кивнула в сторону гостиницы. Потом сказала:
— Сотню дашь?
— Пятьдесят, — сказал я. — Ну, а если понравится, то и сотню.
— Ну ладно.
Она деловито щелкнула замочком, достала из косметички зеркальце, посмотрела на себя, припудрила фингал.
— Не бойся, я не заразная. Заразных отлавливают и бьют. Чтоб клиентов не отпугивать. А если сомневаешься — презервативы у меня с собой…
* * *
Мы остановили такси и поехали.
Она молчала всю дорогу, только однажды спросила:
— А выпить есть?
— Коньяк устроит?
— Устроит… По вашей бедности…
Водила виду не подавал, косяка не давил. Все-таки я от него старался отворачиваться. И высадить попросил за несколько кварталов. Даже сказал, будто случайно:
— Ну вот и приехали.
Пошли коротким путем, дворами и скверами. Она молчала, только цокали каблучки, как копытца.
* * *
Пришли. Она заперлась в моем совмещенном, а я на кухне разлил коньяк, приготовил яблок на закуску.
Она — глазастая — выйдя из ванны, спросила:
— А ты что, доктор, что ли?
— Доктор.
— Не гинеколог, случайно?
— Нет, терапевт.
— А-а… — протянула. — А я смотрю — у тебя тут лекарства везде. Дома, что ли, принимаешь?
— Бывает, — соврал я.
Выпили. Я — пару рюмок, она — три или четыре. И улеглись на мой временно холостяцкий диван. Все было нормально, она даже постонать успела вполне натурально, позиции меняла сама.
Перекурили — и снова.
Было четыре утра. Я принес ей в кровать коньяку, яблоко, пепельницу.
— А колес у тебя нет? — спросила она.
— Чего нет, того нет.
— А еще доктор…
Она выпила, покурила.
— Слушай, я посплю, а? Тебе во сколько на работу?
Я сказал.
— Ну, разбуди…
И уснула мгновенно, младенческим сном. Даже похрапывать начала.
А я стоял у окна и смотрел, как серый рассвет вползает в город, как загораются окна в домах напротив; вот захлопали двери подъездов, во дворе раздался лай: хозяева пошли выгуливать собак. Питерских собак, наглых и сытых, которых я ненавидел.
До утра пил кофе, потом постоял под душем. Потом разбудил ее.
Она чесалась и зевала, от нее скверно несло перегаром.
Опохмелилась коньяком, выпила кофе, оделась. Кстати, юбку надела новую — у нее в сумке оказался целый вещевой склад.
— Ну, понравилось? — спросила она лениво.
Я молча протянул ей 50 рублей.
Она вытаращила глаза:
— Это что?
— Деньги.
— Да какие это деньги? Я о баксах говорила!..
Я пожал плечами. Она взяла деньги, спрятала, и, собираясь, все ворчала:
— Вот свяжись с такой деревней. Чмо.
Я молчал.
Она правильно поняла молчание. Сказала:
— Ну, привет, — и ушла.
Experimentum in corpus vile не получилось.
И, между прочим, эта сучка сперла у меня непочатую бутылку коньяку и пару стеклянных шприцов. Надо же — а я и не заметил.
* * *
Олимпиада Петровна вызвала меня. Я перезвонил ей, она сказала:
— Афоню выписали домой, умирать…
Когда я пришел — был уже вечер, — Олимпиада Петровна встретила меня словами:
— Совсем плох…
Я вымыл руки, прошел за занавеску к Афанасию Неофитовичу.
Лицо его было неподвижным и синюшного цвета. Он приоткрыл рот и долго, мучительно выговаривал одну единственную фразу:
— Вы уж… не обижайте… Липа все сделает…
Я посмотрел: ему прописали омнопон, десяток ампул лежали в коробке на тумбочке, здесь же были одноразовые шприцы — неслыханная по тем временам роскошь. Впрочем, блокадников тогда обеспечивали по высшему разряду.
Я пошел на кухню, где ждала Олимпиада Петровна. У нее тряслись руки, когда она доставала из шкафчика сберкнижку, распухшую от вложенных в нее «сотенных».
— Алексей Дмитрич, — сказала строгим, но предательски дрожащим голосом.
— Мы решили. Помогите ему, а потом — мне.
Я покачал головой.
— Я не смогу, Олимпиада Петровна. Одна смерть еще как-то может сойти с рук, а две подряд, да еще со следами инъекций… Вы уж простите.
Она села за кухонный стол и беззвучно заплакала. Это продолжалось, как мне показалось, очень, очень долго. Потом раздался слабый зов Афанасия Неофитовича. Я не сразу понял, что он говорит, только когда подошел, догадался по губам: