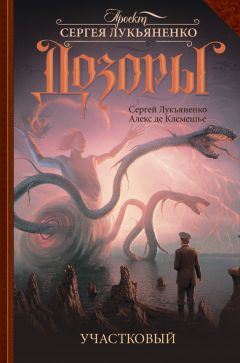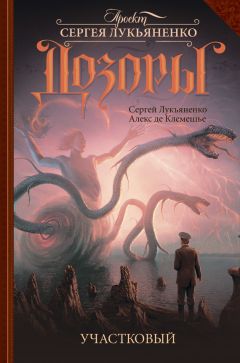Сергей Смирнов - Эвтанатор (Записки врача)

Обзор книги Сергей Смирнов - Эвтанатор (Записки врача)
Сергей Смирнов
ЭВТАНАТОР
(Записки врача)
«Лимита… Было такое понятие. Когда тысячи людей перлись в столицы, устраиваясь под солнцем поудобнее. Понятно — на фоне того, что творилось в нищих провинциях, столичные прилавки казались пределом мечтаний. Даже апельсины продавались в киосках…
Эти апельсины меня тогда и смутили. И, поразмыслив, потосковав, тысячу раз обо всем передумав бессонными глухими ночами в нашем степном городке, я решился.
И стал лимитой.
* * *
Обычный участковый врач в нашем захолустье — человечек важный, нужный, и вообще уважаемый.
Участковый в большом городе — ноль, поденщик, обслуга.
А уж в Питере — два ноля…
Я это понял не сразу. На первых-то порах, получив однокомнатную хрущобу на улице Ковалевской и участок поблизости, я был доволен донельзя. Как же! Столичный житель.
Жилплощадь позволяет — можно выписывать родню. Размножаться и отвоевывать место под тускловатым питерским солнцем.
Первые дни, после работы, любил даже просто погулять. А в выходные непременно выбирался в центр. Ехал на метро до Гостиного, или до Невского, или до Мира — и шлялся бесцельно, вдоль набережных, по мостам, мимо домов, увешанных мемориальными досками.
Потом радость стала быстро проходить. И не потому, что платили гроши и держали на работе в черном теле. Нас таких в нашей больничке много было. Не хватало другого. Только я не сразу понял, чего. И не сразу определил это слово. А когда определил — стал смотреть вокруг совсем другими глазами.
Самоуважение.
Прием в поликлинике — это еще цветочки. Хотя и там гадостей хватало. Вечная слежка начальства, проверки, горы бумаг, да еще и непременные собрания с разносами. А вот вызовы…
Ну, положим. Приходишь к больному, который, судя по бумаге, чуть не при смерти: температура сорок и все такое. А встречает… Сейчас таких называют „новыми русскими“, а тогда называли блатными. Мордоворот, двухдневная щетина, в квартире хрусталь, ковры, финская стенка, на столе — остатки загула: недопитая бутылка виски, лимоны-апельсины, и непременный огурец.
И этот мордоворот, постанывая, говорит:
— Слышь, мужик. Не обижайся — я загулял тут, дня на три… Ты мне больничный двадцатым числом выпиши? Ну, само собой, как скажешь… Может, коньячку хлопнешь?
— Хлопну, — говорю. Сажусь, сдвигая закуску, и начинаю писать.
Жлоб трется возле, пыхтит и чешет посиневшую от загула репу. Я выписываю больничный, кладу его на огурец и садистски участливым голосом говорю:
— Завтра придется прийти, сдать анализ крови.
У жлоба со звоном отстегивается челюсть.
— У нас, — говорю, — строго: с восьми до девяти. А потом пройдете флюорографию. Мочу принесете. В баночке.
Он никак не может поверить. Переходит на шепот:
— А мочу-то зачем?..
— Для полноты клинической картины, — отвечаю я. — У вас заболевание запущенное. Соберете анализы — и милости прошу на прием. В среду, с одиннадцати до двух.
— Чего?
— В среду, — терпеливо повторяю я. — С одиннадцати…
— Да ты не понял! — переходит он на более привычный ему угрожающий тон.
— Я в загуле, мне отмазка нужна на работе.
— В научно-исследовательском институте, наверное, работаете? — говорю я. Клиент работает рубщиком мяса на Кузнецком рынке. А там загулы не понимают.
— Чего?..
Он машинально выливает стакан виски в свое отвисшее брюхо, облепленное мокрой футболкой с надписью Кока-кола».
Занюхивает огурцом. И выдает свое коронное:
— Ты, это. Ты скажи прямо: скока.
Так я и знал. Это «скока» — их пропуск куда угодно. С этим «скока» они попадут в рай, а их драгоценные трупы, облитые туалетной водой, упокоятся рядышком с каким-нибудь Дважды Героем СССР, а то и с Достоевским, с тем самым — Федором Михалычем. Если не в самой императорской усыпальнице…
Вот после таких встреч я и задумался — почти по Федору Михалычу: тварь я дрожащая или право имею?.. Кстати, тот рубщик мяса с Кузнецкого спустил меня с лестницы, да еще и собаку натравил. Было не больно — было обидно.
А я из ближайшего телефона-автомата позвонил 02 и задушенным голосом сообщил, что в квартире номер такой-то в доме таком-то по улице такой-то некто Чуркин А. В., допившись до делириум тременс, изготавливает коктейли Молотова с целью сжечь всех являющихся ему чертей.
Я еще подождал, пока подъехали ПМГ с «санитаркой», и Чуркина А. В. вывели в наручниках и усадили в машину. Конечно, его вскорости отпустят. Его заветное «скока» откроет ему двери любых узилищ. Даже в психушках. Но все же некое чувство удовлетворения я тогда испытал…
А после было еще много подобных встреч. Были мерзкие старушонки, при мне звонившие в поликлинику с жалобами: дескать, вы прислали не доктора, а просто какого-то коновала: вместо того, чтобы поставить кокарбоксилазу, грубит и посылает на анализы.
Были представители «золотой молодежи», партхоздеятели, которым не хотелось светиться в своих спецполиклиниках с триппером, подхваченным на госдачах, а также обвальщики, забойщики, подсобные труженики прилавков, обойщики, настройщики, и даже одна проститутка. Не было только нормальных людей — таких, которых показывали тогда в кино. Слесарей Пупкиных и намотчиц Попкиных…
* * *
Впрочем, были, были нормальные. Я их видел ежедневно на приемах. Они проходили передо мной безликой толпой, состоявшей из сросшихся в диковинную бесконечную цепь тел. Все это сиамское отродье кашляло, пукало, задирало нестиранные рваные майки, футболки, грязное белье, спускало штаны и кальсоны, обдавало гнилью изо ртов, и вонью немытых подмышек, и жаждало одного: освобождения от работы.
Однако через несколько месяцев у меня появились другие, так сказать, клиенты. Однажды на вызове я познакомился с пожилой парой, блокадниками. Старик, перенесший два инфаркта, почти не вставал. Старушка была еще бодрой. Звали ее Олимпиада Петровна.
Прежде всего, они не требовали от меня справок, рецептов новомодных лекарств и уж тем более больничных. Они, скорее, жаждали общения, которого им не хватало так же, как и мне.
Уже наша первая встреча меня поразила. После всей-то этой блатоты. Оба старичка оказались из неведомой для меня до той поры породы — питерских интеллигентов. При этом удивительно, что оба всю жизнь работали на заводе.
Афанасий Неофитович, как ни странно, даже гордился званием рабочего. Он говорил, что и отец его работал на Кировском, а в Питер переселился еще дед, из Олонецкой губернии.
Меня напоили чаем. Афанасий Неофитович, правда, от чая отказался, зато принял участие в беседе. Он задыхался при каждом шаге, хватался за грудь. Губы были синюшными, дыхание коротким и прерывистым. Все признаки далеко зашедшей болезни.
Еще один инфаркт ему, кажется, был обеспечен — так я решил, бросив на него лишь беглый взгляд.
Потом я его выслушал — так, как надо делать всегда, по-человечески. Диабет, стенокардия — полный букет.
Мы сидели за столиком в зале; мебель у них была ветхая и допотопная, на полу — самодельные вязаные половички. Белые кружевные салфетки на подоконниках и полках. Фотографии в рамах и под стеклом…
Вспомнили блокаду. Как прорвали кольцо, как начали вывозить ленинградцев из полуголодного города. Везли в теплушках, кормили от пуза, и у многих начался понос.
— Мы открывали двери теплушки, — рассказывала Олимпиада Петровна, слегка смущаясь. — Афанасий и еще какой-нибудь мужчина держали меня за руки. Спиной наружу. Ну, так и оправлялись…
Афанасий Неофитович смеялся вместе с нами, беззвучно — держась за грудь.
* * *
Сначала я приходил к ним только по вызову, потом, как-то само собой, стал захаживать сам. Измерял давление, выписывал таблетки, а главное — отдыхал душой. Между прочим, они мне многое рассказали о блокаде, чего я не знал. Как расстреливали людоедов. Сын съел свою мать, отец — жену и двоих детей. Причем ел в течение всей зимы, заморозив мясо — хранил его на балконе. Про кошек, которые в первую зиму стали уходить из города. Собирались по ночам в дикие орущие стаи и неслись по улицам, пугая патрули. Кошек, между прочим, блокадники ели за милую душу. Пока не перевелись…
Однажды Олимпиада Петровна вызвала меня по серьезному поводу.
— Афанасий Неофитович заболел, — сказала она.
Афанасий Неофитович, конечно, здоровым еще не был, но тут, действительно, просто слег. Причин было множество, как обычно у стариков. Он лежал за занавеской, не разговаривал, и почти не дышал. Я сказал, что лучше всего отправить его в больницу. Олимпиада Петровна строго и в то же время как-то неуверенно покачала головой:
— Зачем же в больницу? Ведь он там умрет… Он вчера говорит:
«А помнишь, Липа, как мы недавно на „Онегина“ ходили»?.. А мы уже давно в театры не ходим. Ну, только по телевизору иногда.