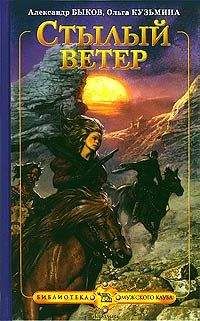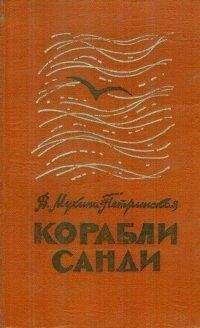Александр Морев - Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е
Естественно, ни одна традиция не могла быть воспроизведена целиком. Рассказ Юрия Шигашова «Дураки» — характерный пример диалога с поэтикой и идеологией А. Платонова, точнее, попытка отделить поэтику от политики. Отдельные предложения кажутся калькой платоновской фразы («Он был молчалив и… много работал, как будто дополняя в себе недостающую умственную работу в голове работой своих рук, будто желая заполнить себя этой простой бесконечной работой»). Однако именно намеренно опущенные при цитировании слова — «как все недоразвитые люди; много работал» и «и уж точно бессмысленной для него работой» — обозначают границу конфронтации с традицией Платонова: превращение героев из чудаков-романтиков в умственно отсталых «дураков». Хотя место действия — провинциальный городок, созданный в революцию из глухого полустанка, — то же самое, разве что навсегда покинутое мечтой о превращении его в «прекрасный и яростный мир».
Интересный и своеобразный набор механизмов символического самоутверждения представляет собой и практика одного из основателей знаменитой еще по 1960-м годам группы «Горожане» Владимира Губина, в частности повесть «Илларион и Карлик». В ней, конечно, отчетливо влияние модной в этот период латиноамериканской прозы, и прежде всего X. Кортасара, можно при желании найти фрагменты, напоминающие Набокова, но куда важнее присутствие «вывернутого, сдвинутого орнаментального слова, загонявшего смысл в невозможность никому и ничему служить, кроме себя самого» (О. Юрьев). Характерно, что критик, принадлежащий совершенно другому поколению питерского андеграунда, проводя параллель между орнаментализмом и принципиальной асоциальностью («никому и ничему не служить, кроме себя самого»), говорит в равной степени и о Губине, и о себе, потому что столь же высоко оценивает одну из самых популярных для ленинградской культуры систем эстетического позиционирования. Понятно, что в этом демонстративном эскапизме почти в равной степени содержатся отсылка к аристократическому превосходству (например, к Пушкину — «себе служить и угождать») и вполне простительное (то есть тактически оправданное) писательское кокетство и лукавство (нет писателей, пишущих для себя, потому что в этом случае о них никто бы не узнал, а раз знают, значит, они предприняли ряд шагов для обеспечения себе известности); но лишний раз подчеркнуть избранность, уникальность, единичность принятой роли означает повысить ее символическую ценность в глазах читателя. Но самое главное, если бы писательская практика никому и ничему не служила, она бы не была востребована. А она бывает востребована в той степени и теми, кто в процессе интерпретации текста способен апроприировать его символические инструменты для социального и психологического самоутверждения. Создание орнаментального текста основывается на предположении, что сложность будет востребована той средой, в которой социальная стратификация происходит концептуально схожим образом. Совершенно необязательно, чтобы писатель сознательно ориентировался на ожидания известной ему аудитории, очень часто эстетические предпочтения автора кажутся ему естественными, единственно возможными, независимыми и репрезентирующими его, и только его, персональные вкусы. Это, однако, не отменяет подчиненность процесса выбора законам экономики обмена. Стратегии писателей и читателей одного круга взаимоувязаны, и неслучайно Губин называет свое окружение «сотоварищами по выживанию».
Влияние орнаментальной прозы отчетливо демонстрируют и рассказы Александра Морева (его демонстративное самоубийство — в 45-летнем возрасте он бросился в вентиляционную шахту строившейся станции метро — еще одно доказательство того, как трудно осваивалось новое социальное поведение теми, кто стал пионерами дистанцирования от общей официальной системы ценностей и противопоставления ей системы ценностей небольшой группы). Морев пытался совместить бытование во «второй культуре» с надеждами на успех в «большом социуме» (ему удалось опубликовать несколько рассказов и стихотворений в советской печати). Но в 1970-е годы куда употребительней были стратегии тотального обособления, в рамках которых советской власти как бы уже не существовало. Или — еще не существовало. Этим уже и еще, в которых настоящее подлежало отчуждению, соответствовали многочисленные примеры использования условного письма, где отсутствовали признаки эпохи, а отстраненность взгляда действительно доходила до «отчужденности мира». Идеологема восстановления разорванной связи времен получала в этом случае буквальное, дословное подтверждение, так как именно «советское» слово изгонялось, чем факультативно подтверждалась ценность досоветской, классической культуры и схема функционирования вне области применения «советского» языка. На эксплуатации приемов условного письма основывались самые разнообразные практики — от интеллектуальных притч до рассказов, воспроизводящих современность без применения современных (советских) понятий. Иначе говоря, в фокусе оказывалось настоящее, увиденное словно из прошлого или из будущего, а точнее — и именно это прежде всего подразумевали адепты условного письма, — с точки зрения вечности.
Вариацию на тему известной немецкой притчи и диалог с немецкими и французскими романтиками представляет собой повесть Тамары Корвин «Крысолов». Тщательно выстроенная стилизация придает изредка появляющимся словам XX века — «светофор», «телефонные переговоры», «компьютер» — иронический смысл. Абстрактные признаки современности столь незначительны, что идея противопоставления подлинного (вневременного) и настоящего (сиюминутного, преходящего) становится доминирующей. Только опьянев, герой начинает говорить современным сниженным языком: «Мы тут в дым укирявши, да, нам можно, а тебе — ни фига, поди скорей квартет напиши с такой клевой-клевой полифонией. У кого фантазия не хиляет…» — или определяет процедуру ухаживания как «длительный охмуреж, как говорилось на богохульном языке моей юности», и как бы подтверждает лежащую на поверхности мысль, что все советское — лишь сон разума.
Концептуально сходным образом советская культура просачивается и в повесть Ильи Беляева «Таксидермист, или Охота на серебристого енота». Если в состоянии нормы большинство описаний совершенно условны (например, советский застойный Ленинград описывается так: «Она повлекла его в старую часть города, где располагались церкви, банки и музеи»), то во сне герой слышит типично советский волапюк, контаминацию военной и революционной риторик: «Внимание! Работают все радиостанции страны и Центральное телевидение! Передаем информационное сообщение к сведению населения. Все девушки, достигшие восемнадцати лет и не вышедшие замуж, объявляются собственностью государства!» В переплетающейся последовательности фантастических историй, рассказанных автором, лишь в моменты наибольшего отрыва от реальности, например когда героиня начинает летать, появляются приметы времени (пионерский лагерь). Другой характерный эпизод — процедура оживления чучел с достаточно прозрачным уподоблением чучела и советского человека в иронической интерпретации: «Нет, батенька. Теперь я чучело и горд этим. Чучело — это звучит гордо! Кто не знает, что такое хоть разок побывать чучелом, тот ничего не знает. Чучело чучелу — друг, товарищ и брат. Чучела всех стран, соединяйтесь!» Иначе говоря, «советское» является в виде своеобразной взвеси, пены на гребне волны увлекательного и вневременного описания. Кстати, описание мистического как животворящего любопытно, так как здесь Беляев отчетливо предвосхищает практики В. Пелевина, появляющиеся спустя десятилетие. Но та, что, как и в случае с Б. Ивановым, эти опыты не получили развития в рамках ленинградской нонконформистской прозы, весьма симптоматично. Концептуализм с его отрицанием традиционного авторства (и ценности лирической позиции автора, прежде всего проявляющейся в стилистическом своеобразии) был чужд стратегиям автобиографического самоутверждения, распространенным в рамках ленинградской «второй культуры». Сама идея ухода «в подполье» для нонконформистского Ленинграда была синонимична спасению уникального авторского дара от растворения в советской пошлости, отвергающей самобытность.
Еще одну версию символического самоутверждения представляет собой проза Бориса Кудрякова, одна из вершин ленинградской «второй культуры» в плане уникального сочетания тенденций дистанцирования от традиций, воспринятых советской литературой, и продолжения традиций, ею репрессированных. Кудрякова, печатавшегося в самиздатских журналах под псевдонимом Борис Мартынов, неслучайно в ряде статей называли «русским Беккетом», хотя для его прозы, и в частности для одного из самых репрезентативных рассказов «Ладья темных странствий», характерны апелляция не только к прозе Беккета, но и к словотворчеству Хлебникова и к традиции «заумников». Результатом стал сложный тексте элементами постмодернистской игры разными стилями, в числе прочего — с советскими речевыми штампами. Такой текст можно было интерпретировать как форму сопротивления ценностным установкам советского общества. Однако этот уровень истолкования не был единственным, за ним мог следовать иной — психологический или антропологический. Вот характерное рассуждение героя рассказа «Ладья темных странствий» о ценностях брака: «Задумывался ли ты: сколько стоит стакан воды? Нет, не в походе, не в безводных краях. Последний стакан, предпоследний; стакан, который тебе принесут. Да, и над этим — да! Если до сорока лет не женишься, ты обречен на связь с кастеляншей или на конкубинат с матерью-одиночкой, имеющей троих короедов и способной терпеть полумужа лишь потому, что ты забиваешь гвоздь и меняешь половицу. <…> Да, тебе придется закрывать глаза на диспропорцию голени, на волосатые уши, на каноническую глупость, на домашний шпионаж, на крики: ты меня не любишь! на ревы: мало работаешь! И все это ради стакана воды, который тебе могут принести на старости лет в постель, а могут еще и подумать».