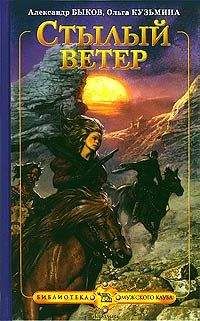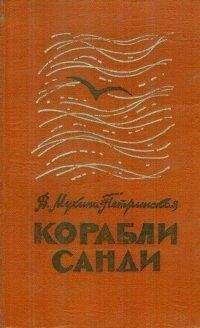Александр Морев - Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е

Обзор книги Александр Морев - Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е
Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е.
Михаил Берг
Воспоминания о будущем
Предисловие
В этой книге собраны произведения с предчувствием уникального будущего. Оно не состоялось, но было потенциально возможно. Как многолетний проект, подтвержденный безусловной определенностью социального выбора нескольких поколений. Как способ дистанцирования от несвободы, важный для культуры. Как эксперимент, поставленный на себе группой разнообразно одаренных, похожих и непохожих друг на друга людей. И при этом радикально отличающихся от большинства в современном им обществе.
Семидесятые годы для ленинградского андеграунда — не менее замечательное десятилетие, чем то, о котором повествовал П. Анненков, живописуя жизнь Герцена, Огарева, Бакунина, Белинского. Среди тех, кто вышел на старт застойно-перламутровых 1970-х, — Леонид Аронзон (ему еще только предстояло застрелиться в горах под Ташкентом), Иосиф Бродский и Кока Кузьминский (они еще не эмигрировали), Виктор Кривулин, Елена Шварц, Сергей Стратановский, Александр Миронов (у этих поэтов еще все было впереди). Прозу того периода сегодня принято олицетворять с Сергеем Довлатовым, востребованным уже в перестройку как знак отказа постсоветского общества от радикальных инноваций и выбора в пользу «нового традиционализма». Однако если говорить о неофициальной культуре, то Довлатов никогда не был героем нонконформистской среды, считавшей себя восприемницей отвергаемых официальной советской культурой обэриутов и акмеистов, Джойса и Беккета, Борхеса и Набокова. И ожидания ленинградской «второй культуры» были связаны с другим и другими.
Ценность, в том числе социальная, литературного акта, жеста, проекта должна быть осмыслена, причем не только на уровне вопроса — почему так написано, но и на не менее принципиальном — почему это прочитано, кем и зачем. Потому что если не интерпретировать литературу как разговор с Богом и способ познания мистического (хотя апелляция к Богу или неведомому — это почти всегда способ дистанцирования от социальной невостребованности), то открывается возможность рассматривать литературное произведение (шире — литературную стратегию) как совокупность механизмов культурного, социального и психологического самоутверждения, которые оказываются важными для тех или иных читательских групп, имеющих вполне определенное положение в социальном пространстве, даже если это положение не всегда легко вычленить и стратифицировать. И найти связь между тем, что называется эстетическим и социальным (или психологическим), особенно важно, если речь идет о литературе прошлого, пусть и недавнего.
Хотя ленинградский литературный андеграунд богат разнообразными и оригинальными текстами, иногда с уникальной и экзотической судьбой (выход в свет данного сборника прозы — дополнительное подтверждение сказанному), вполне оправданным выглядит предположение, что наиболее инновационным в самом феномене существования «второй культуры» на протяжении нескольких десятилетий было своеобразие эстетического позиционирования ее авторов — обособление от общества, его ценностей и иерархий. В свою очередь, легитимность самого андеграунда достигалась апелляцией к ценностям, некогда признанным, но затем репрессированным официальной советской культурой, что позволяло выдвигать ряд обоснований собственной уникальности в виде стратегии соединения разорванной связи времен. Маргинальность, таким образом, переадресовывалась оппоненту, и отвергающим ценности мировой и русской культуры становилось именно советское общество, создавшее огромное гетто застоя, в то время как нонконформисты в рамках этой в равной степени символической и реальной оппозиции превращались в хранителей истинных ценностей. Истинность, повторим, подтверждалась отрицанием ее советской культурой, не научившейся использовать сложное и непонятное в своих идеологических целях. А так как сложным и непонятным считался прежде всего модернизм, то именно различные течения модернизма оказались той традицией, в русле которой следовали и которую развивали авторы андеграунда и которая их, в свою очередь, легитимировала. Конечно, среди многочисленных авторов «подпольной» литературы были и те, кто апеллировал к тому или иному советскому писателю, почти всегда со сложной биографией, что также позволяло включить его в число гонимых, но такие стратегии были изначально обречены на меньшее внимание в нонконформистской среде. Наиболее ценными признавались практики, подтверждающие стратегию дистанцирования, а также само существование «второй культуры» как группы, почти не пересекающейся в своих ценностных установках с другими группами общества. И здесь уже почти не имело значения, что первично — литературная стратегия, отвергнутая официозом и приведшая его автора в «подполье», или само бытование в рамках «второй культуры», предназначенной для поддержания практик, отвергнутых и отвергаемых советским обществом.
Существенной была и двухступенчатая система признания, первым шагом к которой являлось признание своей группой. Но предполагалась и следующая стадия — признание мировой культурой, прижизненное, как это произошло, скажем, с Бродским, или посмертное, как в случае с советскими модернистами Мандельштамом, Цветаевой, Платоновым, Ремизовым, Пильняком и др. Ценность отвергаемых официозом произведений удваивалась судьбой отвергнутых и репрессированных авторов (отчасти поэтому Ахматова была менее популярна в нонконформистской среде, чем Цветаева, — и поэтика менее радикальна, и пострадала меньше). Но решающее слово принадлежало, естественно, будущему, и поэтому манифестирование связей с явлениями современной радикальной западной культуры представало действенным механизмом, активно воспринимаемым читателями андеграунда.
Борис Дышленко — автор вполне репрезентативных для указанного периода повестей и рассказов, создавший советскую версию «кафкианского» героя. Проза Дышленко отчетливо обращена к традиции «нового романа» (А. Роб-Грийе, Н. Саррот и др.), а также к не менее важной линии обретения легитимности — к прозе 1920-х годов, например к О. Савичу и его роману «Воображаемый собеседник». Отвергнутые официальной советской культурой, эти литературные направления неизбежно приобретали высокий статус. Еще один уровень отсылок прозы Дышленко — оппозиция «маленький человек — беспощадная власть», которая в советских условиях интерпретировалась как вариация правозащитной темы. Если же говорить о таких весьма расплывчатых категориях, как «талант» или «мастерство», то их присутствие проявляется в более или менее точной пропорции между близостью к одним традициям и подчеркнутым дистанцированием от других, с обязательным присутствием узнаваемых читателями зон табуирования и манифестацией «новизны». Поэтому для референтной группы Дышленко было важно ощутить влияние традиции, но столь же необходимым было наличие собственного авторского стиля, позволяющего интерпретировать писательскую стратегию как «ранее не существовавшую» и потому ценную.
Если использовать психоаналитический термин эмпатия, то для читателя Дышленко эстетическое переживание его прозы и состояло в эмпатировании в создаваемые им образы табуированного, запретного, но несомненно ценного, что подтверждало верность собственного социального и культурного выбора. Используемый Дышленко «герой» предполагал возможность для эмпатии в саму оппозицию «маленький человек — беспощадная власть» (у героя повести «Пять углов» украдено прошлое, точно так же, как у гоголевского чиновника — шинель), а вот возможность ассоциирования себя с самим героем (запуганным, рефлексирующим и неспособным понять причины своих бед) для нонконформистского читателя была проблематичной. Для деятелей «второй культуры» куда репрезентативнее была роль не жертвы, а героя с демонстративным девиантным поведением, в котором социальное непризнание являлось залогом неизбежной будущей славы.
Среди наиболее оригинальных версий такого героя — автобиографический персонаж прозы Владимира Лапенкова с отчетливостью отсылок к Генри Миллеру, Дос Пассосу, к обэриутам с их языковыми играми, а также к таким пограничным для ленинградского андеграунда фигурам, как Давид Дар[1]. Обособление автора от традиционного «советского» письма (на самом деле продолжающего и повторяющего традиции русской прозы) облегчало эмпатию для читателей, избиравших, скажем, более маргинальную стратегию самоутверждения, и препятствовало эмпатии для ищущих возможности социальной адаптации. Особенности стиля состояли, в частности, в демонстративных языковых сбоях, семантической игре вплоть до зауми. Именно по поводу представленного в сборнике «Рамана» Лапенкова в русской критике, кажется, впервые было использовано определение «игровая проза» (так этот текст, опубликованный в парижском журнале «Эхо» в конце семидесятых годов, был охарактеризован главным редактором журнала «Континент» В. Максимовым). С помощью категории «игровая проза» были легитимированы такие важные отличия от психологической прозы, как стилистическая несбалансированность, игра с чужими голосами, черный юмор. То, что многие из этих приемов ранее эксплуатировались обэриутами или, скажем, в театре абсурда Беккета, Мрожека, Ионеско, не понижало акций «новизны» соответствующих текстов, а лишь делало их более узнаваемыми. Сомнительно, чтобы В. Максимов опирался в своих оценках на интуиции Барта, на ставшее к этому моменту каноническим противопоставление потребительского текста игровому[2], вполне репрезентативные для целого ряда явлений ленинградского литературного андеграунда 1970-х годов. Особенное значение здесь приобретало изменение функции читателя игрового текста, который в рамках его восприятия (эмпатии) получал возможность для дописывания, достраивания открытых структур. И, как следствие, инвестирования куда более творческой, социально более ценной позиции в процедуру интерпретации текста. Читатель «второй культуры» был заинтересован в подобных инструментах символического дистанцирования и одновременно, создания группы единомышленников, легко преобразующих социальную ущербность в культурное превосходство. Игровые практики позволяли игнорировать такие важные константы официальной культуры, как роль традиционного автора (навязывающая читателю единственный способ истолкования текста) и возможность отождествления себя с героем (и все только для того, чтобы в обмен на признание власти и превосходства автора получить право на использование, апроприацию его ценностной модели). Герой «Рамана» с его демонстративной асоциальностью затруднял для читателя процедуру отождествления с ним, зато появлялась возможность для сближения позиций читателя и автора, а акцентированная маргинальность и эпатаж, свойственные герою, предоставляли дополнительные возможности для символического дистанцирования.