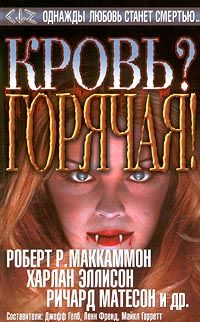Всё, что у меня есть - Марстейн Труде
— Очень приятно, — слышу я свой голос, — очень приятно познакомиться.
Когда я захожу в квартиру, вернувшись от Нины и Трулса, замечаю, как мигает огонек автоответчика. Два сообщения, вспышка надежды, что хотя бы одно из них — от Эйстейна. Первое — от Анны Луизы, длинная тирада о том, что каждый день у нее одно и то же, хотя она половину времени на больничном, а Андреас и Тереза в школе и садике, и что ее тошнит от одного вида собственного тела, и что она мечтает снова надеть джинсы и напиться как следует, и можем ли мы как-нибудь встретиться вечерком, хотя к девяти вечера она уже будет жутко вымотана.
Я забыла зайти к Норе сразу и заглянула, когда было уже слишком поздно и она спала. Я заметила розовый лак у нее на ногтях.
Второе сообщение от мамы, ее голос слышится так отчетливо, даже через помехи, словно она стоит и говорит прямо передо мной. «Привет, Моника, это мама. Надеюсь, все в порядке. Я только что долго разговаривала с Элизой, они все, кроме Яна Улава, подцепили желудочный грипп, но все более-менее. Я просто так позвонила, без повода, хотела узнать, как ты. Ну, пока». Как же мы друг от друга далеки, ужасно далеки, и дело не только в расстоянии между Осло и Фредрикстадом, расстоянии во времени, отрезке времени между тем, когда она записала сообщение, а я его прослушала. И не только в том, что я сейчас сижу по-турецки прямо на полу в юбке и сапогах, с размазавшейся тушью под глазами, а она, сидевшая на стульчике у телефона, когда звонила мне, теперь лежит в постели рядом с папой и спит. Что она думает о своей младшей дочери? Я знаю, что у нее на столике стоит будильник со светящимся циферблатом, лежит газета с кроссвордом, очки для чтения. Мне уже за тридцать, я, бездетная и пьяная, сижу на полу в Осло. А она — мать троих детей, вырастившая их, и теперь у нее четверо внуков.
Я думаю, каково это — бросить испачканное постельное белье в стиральную машину и пойти прилечь, пока ждешь следующего приступа рвоты у ребенка, сознавать, что только ты можешь о нем позаботиться, но при этом быть уверенной, что всё на своих местах, что можно ненадолго расслабиться, что существуют жесткие правила относительно того, что нужно делать, и следует просто их выполнять. День за днем, день за днем.
Я легла в постель и чувствую, как раскалывается голова. Темнота, окружающая меня, состоит из крошечных светящихся частичек, я пьяна, хотя давала себе слово, что не буду так напиваться. Я стреляла сигарету за сигаретой после того, как моя пачка опустела, у Кайсы, у Трулса. Кайса изучает историю искусств. О чем я думала, когда выбрала литературу? У меня не было планов становиться учителем раз и навсегда. У Кайсы нос с горбинкой и маленький рот, густые темные длинные волосы, в ее красоте есть изюминка. Кайса подрабатывает в художественной галерее.
Из того, что сказала Нина, я помню только: «Нам надо подыскать более просторную квартиру, надоело жить в тесноте» и «Ой, как накурено, может, хватит уже здесь курить?».
На часах уже половина второго, и я не понимаю, почему Эйстейн не позвонил. Я лежу и представляю себе, как Толлеф и Кайса раздеваются и ложатся в постель Толлефа, представляю тело Кайсы: спину, грудь, ягодицы — все.
Через несколько месяцев после того, как я съехала от Толлефа, я попросила, чтобы он позволил мне вернуться. Когда я уходила от него в том году сразу после Рождества, он сказал: «Думаю, ты совершаешь ошибку». И еще: «Думаю, я мог бы сделать твою жизнь прекрасной». Я помню, что меня охватило отчаяние, в нем смешались злость и жалость. Сделать жизнь прекрасной, да, он был прав. Я знала, что он прав, но это была не та прекрасная жизнь, о которой я мечтала, во всяком случае не тогда. И потом я снова начала встречаться с Руаром и поехала с ним в Париж, а потом случились Гран-Канария и Боб. А что же теперь, подумала я после всего этого. Может, теперь пришло время той самой прекрасной жизни? Мысль о том, что я обладаю властью над счастьем Толлефа, казалась очень привлекательной. Но это же такая ответственность.
Кристин и Нина каждая со своей стороны убедили меня, что я должна порвать с Руаром, который к тому же тратил все свое время и силы на переезд в новый дом в Тосене, и жизнь моя стала пустой, лишенной тревог и чувств, стерильной.
Мы с Ниной пошли выпить пива, говорили о Толлефе. И потом, вместо того чтобы отправиться домой, я поехала к нему, просто позвонила около полуночи в дверь его квартиры. Он впустил меня. Я стояла в коридоре и просила его позволить мне вернуться.
Он внимательно слушал, разглядывая меня.
— Что такого произошло, что ты изменила свое решение? — спросил он. Но он уже взял меня за руку и гладил успокаивающе, и я понимала только одно: что мне хочется оказаться с ним в постели как можно скорее.
Когда я приняла это решение, оно казалось таким правильным и необходимым. Мой поступок был искренним. Я искренне говорила о чувствах, о существовании которых до этого и не подозревала, но в которые поверила, когда заговорила о них. Потом мы лежали в постели, все еще одетые, лицом друг к другу и шептались. Я говорила о том, как страдала и скучала, как осознала, что он нужен мне. Я сказала, что долго думала над его словами о том, что моя жизнь с ним может быть прекрасной.
— И где-то в глубине души, безотчетно, я уже тогда осознавала, что это именно так, — рыдала я.
Я рассказывала о Руаре, о том, как он давил на меня, я выставляла себя жертвой, хотя не произносила этого слова.
— Я не понимаю, о чем я тогда думала, — объясняла я, — не понимаю, как могла это сделать, он ведь на девятнадцать лет старше меня, Толлеф, и он не такой уж хороший человек. Взять хотя бы то, как он поступает со своей женой.
Потом мы занялись любовью. Я дала выход страсти, так что Толлефу приходилось крепко держать меня, успокаивать и шептать «ш-ш-ш».
Когда что-то подобное происходит в фильме или в книге, не возникает никаких сомнений в том, что расставание — это ошибка, словно короткое замыкание в мозгах, безумие или психоз романтического свойства, решение, идущее вразрез с логикой и здравым смыслом, а потом главный герой приходит в себя, находит единственно верный путь — обратно, и наступает счастливый финал.
Утром следующего дня я проснулась, исполненная любви и нежности, но Толлефу нужно было рано уходить на семинар. Он осторожно, будто до конца не веря своему счастью, поцеловал меня, и я, едва сдерживая слезы, подумала: я должна сама поверить в свою любовь, если хочу, чтобы все получилось. Если я не уверюсь в ней, ничего не получится.
— Холодильник почти пустой, — сказал он. — Я куплю что-нибудь по дороге домой.
После этого он крепко обнял меня, словно не верил, что застанет меня здесь, когда вернется.
— Поспи еще немного, — сказал он. — Я рад, что ты здесь.
Уснуть я не смогла.
На столе в кухне лежал хлеб в бумажном пакете, почти засохший. Я обследовала кухонный шкаф Толлефа: капсулы рыбьего жира, упаковка кокосовой стружки, пачка печенья. Я нашла измятый пакет с мюсли, залила их молоком из холодильника и села за стол. Каждый раз, когда за окном проезжала машина, свет на стене кухни немного менялся. Меня вдруг накрыло чувство, что все в этой жизни случайно и напрасно. Во дворе — громкие крики, кто-то звал собаку: «Кевин, Кевин!» Шум от проезжающего автобуса, гудки автомобилей. Я не ощущала счастья и спокойствия, но и разочарованием или чувством утраты это нельзя было назвать, только пустотой, бездонной пустотой, с которой, мне казалось, можно было какое-то время мириться. Так иногда ставят крестик в календаре, и я мысленно поставила его на две недели вперед, на второе июня. Я пообещала себе, что второго июня я скажу Толлефу, что ошиблась. Дорогой, милый, скажу я ему, я очень сожалею, я пыталась, но у меня не получилось, я очень хотела.
Но не раньше. Вплоть до этого момента я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы загладить вину за все плохое, что я ему сделала. Я сполоснула свою тарелку, вернулась в постель и подумала о близости с ним. Я подумала, что не будет ничего плохого, если никто не узнает о том, что я задумала. Я пообещала себе никому никогда об этом не рассказывать, даже если мне очень этого захочется. Чувства контролировать невозможно.