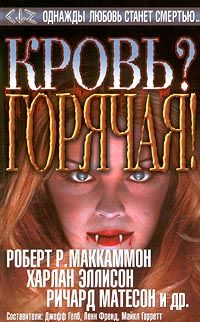Всё, что у меня есть - Марстейн Труде
В субботу мы целый день вместе, слоняемся по городу, по улицам, которые уже празднично украшены к Рождеству. Эйстейн рассказывает, что наконец-то прошел с классом пьесу Ибсена «Дикая утка».
— Это было непросто, — говорит он. — Но мы ее разобрали и отпраздновали это всем классом, у меня для них было печенье «Мэриленд», они заслужили награду хотя бы своим терпением.
Он придерживает меня за руку, чтобы мы могли пропустить вперед женщину с коляской. Гирлянды на универмаге «Steen & Strøm» переливаются тысячью маленьких лампочек.
Да, пьеса непростая, я проходила «Дикую утку» со своим классом, и хотя меня несколько взволновали и само произведение, и его герои, я была далека от того, чтобы делиться этими чувствами с пятнадцатилетними учениками. Однажды я напомнила Толлефу, который, как я знала, очень любил Ибсена, и особенно «Дикую утку», фразу из пьесы: «Ты мой лучший, единственный друг», и Толлеф грустно улыбнулся и сказал, что, несмотря ни на что, он рад, что мы с ним друзья.
Мы с Эйстейном лавируем между тумбами с пуансеттиями и гиацинтами на площади Стурторвет.
— Я стараюсь объяснять как можно проще, — продолжает Эйстейн, — и я дал им понять, что и для моего терпения пьеса стала испытанием.
Когда мы так гуляем, мы всегда беремся за руки, но ненадолго, кто-то из нас все равно быстро отнимает руку. На Эйстейне варежки, на мне — вязаные перчатки. Он сжимает мою ладонь и выпускает ее.
— Я беру Ульрика на Рождество, но сразу после праздника я в твоем распоряжении, так что имей в виду, — говорит он.
— Буду иметь в виду, если у меня не появится других планов, — отвечаю я.
Он обнимает меня, прижимает к себе и целует прямо под гирляндой с алыми сердечками.
— Я… — начинает он и смотрит на меня, прищурившись. — Пожалуй, я начинаю в тебя влюбляться.
Все сливается — булыжная мостовая на площади, киоски с овощами и фруктами и всевозможные вещи на продажу: украшения, ремни, шарфы, шали, красные рождественские шапочки с помпонами, проигрыватели для виниловых пластинок, кассеты. Внутри разливается спокойствие, когда кажется, что мечты начинают сбываться, и счастье находит свое место, где ему ничто не угрожает, и все мысли и стремления приходят в равновесие.
— Влюбляться, — повторяет Эйстейн словно самому себе. — Кажется, я уже влюблен.
Когда мы входим в квартиру, звонит телефон, и Эйстейн не успевает взять трубку — звонок прерывается. В квартире, как обычно, немного душно. Однажды, несколько недель назад Эйстейн, сооружая бутерброд с ветчиной, сказал как нечто само собой разумеющееся:
— Я бы хотел иметь еще детей. А ты хочешь детей?
К горлу подкатил комок, я не смогла ничего ответить. Это было на следующее утро после того, как я осталась ночевать у Эйстейна в четвертый раз. Он воспользовался презервативом, как и в предыдущие ночи.
— Но у нас еще много времени, — сказал он и добавил: — Когда придет время.
И я представила, как иду по лужайке в летнем платье, туго обтягивающем огромный живот, а на меня смотрит моя мама.
Снова звонит телефон, и на этот раз Эйстейн берет трубку.
— Что? — почти кричит он. — Нет! Да. Хорошо, да.
И я понимаю, что звонит мать Ульрика, потому что что-то случилось. На стене в кухне канцелярскими кнопками прикреплены детские рисунки. Уголок одного из них открепился и завернулся. Детские изображения домов, цветов, машин и лошадей.
— Да, да, еду прямо сейчас, — повторяет Эйстейн.
Я сажусь на стул. Вижу, что к столу прилипли остатки еды — каши или мюсли. Эйстейн кладет трубку, подходит и садится прямо напротив меня.
— Ульрик упал с дерева, — произносит он. — У него сотрясение мозга, и он в больнице.
Эйстейн сдвигает в сторону сахарницу и смешного рождественского ниссе, сделанного из втулки от туалетной бумаги, наклоняется и смотрит на меня. Яркое солнце поднялось прямо над крышами и светит в окно, пробиваясь сквозь листья цветов, стоящих в горшках на подоконнике, и освещая его лицо. Он щурится, отводит взгляд, снова смотрит в глаза и берет меня за руку.
— Я не смогу пойти на ужин сегодня вечером, — продолжает он. Я непроизвольно отдергиваю руку и тут же понимаю, что нужно было сдержаться.
— Мне обязательно нужно уехать, — говорит он. Я смотрю на него и выдавливаю из себя подобие улыбки. Он завязывает ботинки, возвращается к телефону и набирает номер.
— А ты пойдешь? — спрашивает он, слушая гудки. Я качаю головой.
— Привет, Вегард, — произносит он в трубку. — Моника и я — мы не сможем прийти сегодня. Ульрик упал с дерева, он в больнице. Да нет, ничего особенно серьезного, подозрение на небольшое сотрясение.
Он снимает с крючка в коридоре ключи от машины, но не предлагает отвезти меня домой. Солнце уже опустилось, и небо на горизонте с западной стороны окрасилось оранжевым. Его машина стоит на Маридалсвейен, он целует меня и обещает позвонить.
Я иду домой, открываю дверь и поднимаюсь по лестнице. В квартире жарко и душно, я распахиваю окно и впускаю в комнату холодный зимний воздух, завязываю мешок с мусором и выставляю его на лестничную клетку.
Это всего-навсего обед с общими коллегами, ничего больше, но мы должны были пойти туда как пара, и я так радовалась, придавая этому слишком большое значение.
Я думаю об Ульрике, представляю его с широкой повязкой вокруг головы. В его палате сидят они, Эйстейн и Янне, вместе у его кровати. Я пытаюсь представить, о чем они говорят — об Ульрике. О том, что случилось на этот раз, и вообще об Ульрике — его развитии, как он приспособится к изменениям в жизни, потому что у каждого из родителей появился новый возлюбленный. Возможно, Эйстейн рассказывает Янне обо мне. Янне наверняка говорит ему, что нам не нужно спешить, а Эйстейн соглашается — все для того, чтобы сохранить между ними двумя в больничной палате этот позитивный настрой. А может быть, он обо мне не рассказывает, потому что считает, что сейчас неподходящий случай. Так что они, скорее всего, говорят о своих отношениях. О том, что пошло не так, о том, что могло бы быть иначе. Но теперь уже слишком поздно что-то менять. И возможно, теперь зарождается крошечное сомнение, оно повисает в воздухе под абажуром светильника, проникает через больничные занавески, просачивается через блестящий металл и лакированное дерево, потому что непонятно, действительно ли настолько уж поздно что-то менять.
Я начинаю названивать всем подряд.
— Я должна что-то придумать, — говорю я. — Хочешь выпить пива? Можно я приду?
Отзывается Нина.
— Мы пригласили нескольких друзей на ужин — просто так, никаких торжеств, так что приходи. И Толлеф здесь!
Когда я прихожу, Трулс и Толлеф уже убирают со стола тарелки. Нина стоит на кухне с огромным животом и раскладывает листочки мяты в шесть тарелок с десертами.
— У нас один десерт лишний, — говорит она, — муж Софии остался дома с простудой. Но давай-ка сначала перекуси. Нора еще не заснула, она будет на седьмом небе, если ты зайдешь к ней поздороваться.
Толлеф обнимает меня, и я киваю двум сидящим за столом девушкам — с Софией мы раньше встречались, она тоже беременна.
— У нас срок родов стоит с разницей в две недели, — щебечет Нина, — но у меня живот в два раза больше, чем у нее.
Рядом с Софией сидит Кайса, она шведка.
— Кайса — моя девушка, — поясняет Толлеф, — мы встречаемся недавно.
Я поворачиваюсь к нему, продолжая улыбаться. На нем белая рубашка из грубой материи, в каждой руке — по тарелке с десертом.
Я думаю, что у Толлефа все же есть черты характера, которые многих бы раздражали, не я одна такой ужасный человек. Но отрицательные черты в характере Толлефа вовсе не такие, как у других людей, и если посмотреть со стороны, то оказывается, что эти черты не так уж и плохи. И в этом была, пожалуй, самая большая сложность совместной жизни с Толлефом.
А я-то думала, что душевная травма сделает его этаким одиноким волком, возможно на всю жизнь, в любом случае на какое-то время, но, очевидно, так думала только я. Я снова взглянула на Кайсу — красивая, необычная. И вправду красивая.