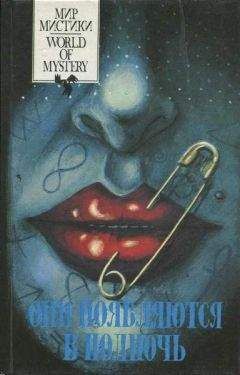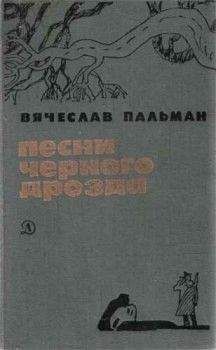Иди за рекой - Рид Шелли
Когда он распахнул свои маленькие припухшие глазки и в первый раз с любопытством на меня посмотрел, я была поражена настолько, что не передать словами. Все эти месяцы я полагала, что существо у меня внутри – незнакомец, загадочное создание или, может быть, заслуженная плата за грехи. Мне и в голову не приходило, что я его сразу узнаю – узнаю каким‐то глубинным чутьем, которому нет названия, узнаю ребенка с этими темными глазами, до дрожи знакомыми.
Он нахмурил крошечные брови, и мы долго и пристально смотрели друг на друга, как две души, воссоединившиеся после целой вечности разлуки.
Глава тринадцатая
Когда я впервые кормила своего малыша, после драматического накала и эйфории, сопутствовавших его рождению, молоко у меня было жирным и желтым, как сливочное масло. Боль, пронзившая сосок, послала сигнал в матку, и та изгнала из себя плаценту. Я нашла нож и перерезала пуповину; потекла кровь и текла не переставая, пока я не перевязала обрубок желтой шерстяной нитью из сумки с вязанием, понадеявшись, что этого будет достаточно. Оставив всю грязь на полу, я забралась в постель и укрыла нас обоих двумя последними чистыми одеялами. Я опасалась, что яркие запахи родовых соков привлекут в хижину животных, но не смогла найти в себе силы подняться и навести порядок. Малыш сосал, а я в изумлении любовалась его совершенством: безупречные губы, нос и лоб; изысканный виток уха, темные вдумчивые глаза, так похожие на глаза его отца. Я предположила, что фамилия у него Мун – Луна, и принялась нежно нашептывать ему разные прозвища – Лунный мальчик, Лунный пирожок, потом я вспомнила песню “Эта синяя луна”, а за ней – Большие Синие горы Биг-Блю, и из всего этого осталось и закрепилось за ребенком имя Малыш Блю. Его рождение вытянуло из меня все силы, но в то же время я была преисполнена благодарности – за его дыхание, за мое молоко, за то, что страх, с которым я ждала его появления, уже позади, за то, что теперь я прижимаю к себе частицу Уилсона Муна. В нашем священном послеродовом коконе мы проспали несколько дней подряд. Посреди этого забытья у меня налились и разболелись груди, и я испугалась, что, наверное, происходит что‐то ужасное, но молоко по‐прежнему текло, на этот раз белое и похожее на сливки.
Однако очень скоро мои последние оставшиеся силы исчерпались, а вместе с ними закончилась и единственная пища, доступная малышу. На то, чтобы ловить рыбу, у меня не было сил. А за малиной, растущей высоко на склоне холма, я, может, и смогла бы забраться, но теперь туда повадилось ходить слишком много медведей. Все запасы продуктов давно исчерпались, и теперь мне приходилось ограничиваться тем немногим, что удавалось собрать в моем еще не вполне дозревшем огороде, – в основном это были горошек и зелень, потому что я по глупости посадила корнеплоды и капусту, которые растут слишком медленно, а еще у меня были хиленькие морковки, картошка размером с речную гальку и немножко оставшейся свеклы, размером не больше кулачка Малыша Блю. Отчаяние мое было так велико, что, когда я наконец‐то завернула послед в верхнее одеяло и утащила его настолько далеко от лагеря, насколько хватило моих скудных сил, некоторое время я размышляла над тем, не начать ли мне потихоньку есть плаценту, – я знала, что некоторые другие животные это делают. Собственное молоко из сложенной чашей ладони мне пить тоже доводилось. Но я все‐таки отказалась от обоих вариантов, посчитав, что это будет уже окончательным моим нравственным падением. Придется обходиться огородом. Но я прекрасно понимала: огорода недостаточно.
Когда Малышу Блю было едва больше двух недель, его существование становилось все более осмысленным, хотя молока у меня все чаще не обнаруживалось, как и способностей здраво мыслить, – и однажды утром я проснулась и увидела, что снаружи так темно и холодно, как будто на дворе скудные останки декабрьских сумерек. Едва открыв глаза, я тут же почувствовала: случилось что‐то нехорошее.
Я уложила спящего малыша на кровать и поверх вязаного покрывальца, в которое он был запеленут, подоткнула наши с ним общие одеяла. Дрожа, натянула свой огромный свитер и выглянула в окошко. Снег. Он выпал за ночь, не меньше двух футов высотой. Хотя, насколько я могла судить, сейчас был конец августа. В горах любой каприз погоды – норма. Наверное, жители Айолы в этот момент радовались дождю, которого на их истосковавшейся земле не было с весны. Мне же, наоборот, не нужно было даже выходить из хижины, чтобы понять, что непредвиденный снегопад и морозный воздух – мой приговор. Огород наверняка погиб.
Теперь мне уже ничто не мешало немедленно отправиться искать помощи, оставалось только дождаться окончания непогоды. Приняв решение сдаться, я больше была не в силах откладывать исполнение задуманного. Небо целых два мучительных дня не светлело, и температура не поднималась. Я все время держала голого малыша у себя под свитером, прижимая к телу. Мы почти все время спали, и он сосал грудь. Когда тепла или молока не хватало, мы оба плакали. Я высунулась из дома лишь на третье утро – там светило летнее солнце, и земля жадно пила тающий снег. К обеду от того, что было моим огородом, почти не осталось следа – только несколько грязных лужиц в тени деревьев и поникшая зеленая муть. Не уцелело вообще ничего. Крошечные свеколки, морковки и картофелины были еще съедобны, но вот их ботва (а вместе с ней и все их обещания) была уничтожена. Я принялась раскапывать погибший огород, собирая урожай, и съела все, что смогла найти. А потом надела на своего тощего младенца свежий вязаный подгузник, поплотнее завернула его в одеяльце, прижала к груди и двинулась в том направлении, откуда, как мне казалось, с большей вероятностью мог появиться живой человек.
Несколько месяцев назад, когда я сюда только пришла, я представляла себе, как в тот день, когда настанет время уходить, я тщательно уничтожу все следы своего лагеря. Вскопаю огород, разберу каменное кострище, выброшу рогатину, на которую подвешивала котелок, сниму веревки, приберусь в хижине, опрокину пенек, который служил мне креслом. Сотру лето своего позора, и никто никогда о нем не узнает. Но теперь, уходя из лагеря, я была настолько слаба, что сил не хватило даже на то, чтобы застелить постель или положить в рюкзак вилку и ложку и закинуть его за плечи, и я пыталась найти ответ на два вопроса: кто, по моему разумению, должен был настолько мною заинтересоваться, чтобы забраться сюда и начать здесь все исследовать? И как я планировала поступить с самым неопровержимым доказательством своего преступления – собственно ребенком? Что толку в секретном лагере глубоко в горах, когда я заявлюсь в Айолу с новорожденным младенцем на руках? Я покачала головой и зашагала дальше – теперь я была на целую жизнь старше той безмозглой девицы, которая пришла сюда в апреле.
Это был самый долгий поход за всю мою жизнь. Я понятия не имею, десять миль я тогда прошла или одну. Я заботилась лишь о том, чтобы крепко прижимать к груди своего почти невесомого ребенка и передвигать ногами. Больное сознание играло со мной шутки, и мне казалось, я шагаю по какому‐то нездешнему миру. Я шла решительно и целеустремленно, хоть и не знала куда, а лес вокруг казался таким враждебным, каким не был уже несколько месяцев: солнце уходящего лета хлестало нещадно, птицы гремели, как полковой оркестр, почва под ногами была бугристая и уродливая, будто поле, усеянное черепами. Даже высокие стебли лилового кипрея, казалось, смеются надо мной, хвастаясь тем, как ловко противостояли снегопаду, разрушившему все мои надежды. Когда малыш тихонько заплакал, я остановилась и дала ему грудь, зная, что только разочарую его несколькими глотками скудного нищенского молока и уже через несколько минут он начнет хныкать и требовать еще. Как и здешняя засушливая земля до снегопада, тело мое совершенно высохло. Мне больше нечего было давать.
Когда на моем печальном пути встретилась поляна, я, выйдя из‐за деревьев, наткнулась на олениху-мать, и мы обе в испуге отпрянули. Я не видела ее уже несколько недель. Между нами было не больше пяти ярдов, мы стояли и смотрели друг другу в глаза. Теперь мы обе были матерями, но где же ее оленята? Тут раздался шелест листьев, и из‐за кустов показался ее любимый сын, высокий и прекрасный. Олененок взглянул на меня с благоразумной осторожностью и встал рядом с матерью. Пара грациозно двинулась дальше. Второго детеныша видно не было. Я села на булыжник и стала ждать. Когда слабенький последыш так и не показался, я проглотила ком в горле, покрепче прижала к себе Малыша Блю и из последних сил зашагала дальше.