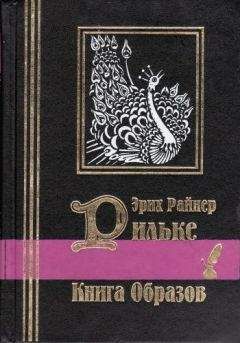Уильям Стайрон - Выбор Софи
– Ха! – возразил он. – Вот видишь, это въелось даже в твою речь. Не-гра! Это же предельно оскорбительно.
– Но мы так говорим там. Никто и не думает никого оскорблять… Так или иначе, – нетерпеливо продолжал я, – кто дал тебе право нас судить? Я это нахожу оскорбительным.
– Я еврей и потому считаю себя авторитетом по части мук и страданий. – Он помолчал, и мне показалось, что я впервые увидел в его взгляде презрение и нарастающее отвращение. – Что же до этой попытки уйти от разговора с помощью таких эпитетов, как «нью-йоркские либералы» И «лицемерное дерьмо», то я считаю это слабым и бездоказательным ответом на честные обвинения. Неужели ты не способен понять простую правду? Неужели ты не способен увидеть правду во всей ее жути? Ведь твой отказ признать свою ответственность за смерть Бобби Уида ничем не отличается от поведения тех немцев, которые открещивались от нацистской партии и спокойно, молча взирали на то, как эти хулиганы громили синагоги И множили Kristallnacht.[51] Неужели ты не видишь, что ты такое? И что такое Юг? В конце концов, ведь не жители штата Нью-Йорк прикончили Бобби Уида.
Почти все, что он говорил – особенно насчет моей «ответственности», – было исполнено высокомерия, перекошено, нелогично и до ужаса неверно, однако, к моему величайшему огорчению, я обнаружил, что ничего не могу сказать ему в ответ. Я был мгновенно деморализован. Я издал какой-то чирикающий звук и на подгибающихся ногах не слишком изящно передвинулся к окну. Кипя от бессильной злобы и немощи, я тщетно пытался найти какие-то слова. Залпом осушил почти целый стакан пива и уставился затуманенным досадой взором на раскинувшиеся внизу пасторальные, залитые солнцем лужайки Флэтбуша, на шелестящие листвой платаны и клены, на красивые улицы, где, как всегда по воскресным утрам, не наблюдалось особого оживления: мужчины, сбросив пиджаки, играли в шары; шуршали, проносясь мимо, велосипеды; по тротуарам, испещренным пятнами, гуляли люди. Запах скошенной, сочной, зеленой травы щекотал мне ноздри сладкой свежестью, приводя на память сельские дали и просторы – поля и тропинки, наверно, почти такие же, как те, по которым бродил юный Бобби Уид, чье имя Натан врезал мне в мозг и оно пульсировало там открытой раной. При мысли о Бобби Уиде я почувствовал, как меня захлестывает горечь обессиливающего отчаяния. Ну как мог этот чертов Натан в такой дивный день вызвать к жизни тень Бобби Уида?
А за моей спиной звучал голос Натана, пронзительный, безапелляционный; я вспомнил, как однажды слушал на Юнион-сквере приземистого молодого коммуниста, который широко раскрывал рот, зиявший, словно рваный карман, и с жаром выкрикивал что-то в небесную пустоту.
– Южане сегодня лишили себя права называться частью человечества, – не оставлял меня в покое Натан. – Каждый белый южанин повинен в трагедии Бобби Уида. Все южане за это в ответе!
Я резко вздрогнул, рука у меня дернулась, и пивная пена окатила стенки стакана. Тысяча девятьсот сорок седьмой год. Один-девять-четыре-семь. В то лето – почти месяц в месяц за двадцать лет до того, как сгорел город Ньюарк и кровь негров окрасила в алый цвет стоки Детройта, – еще можно было (если ты родился на Юге и принадлежал к числу людей чувствительных, просвещенных и знающих свою страшную и противную Богу историю) страдать, когда тебя секли словами, даже если ты понимал, что они сильно попахивают возродившейся непогрешимостью аболициониста, приписывающего себе такое стерильно чистое моральное превосходство, какое может вызвать лишь снисходительный, но безрадостный смех. Южанам, отважившимся перебраться на Север, приходилось терпеть подобные обвинения в извечных грехах только потому, что раньше они жили на Юге, – правда, выражалось это в менее резкой форме, в виде завуалированных издевок и надменного злословия в гостиных; официально этот бесконечно трудный период окончился августовским утром 1963 года, когда на Норт-Уотер-стрит в Эдгартауне, штат Массачусетс, молоденькая, светленькая, пухленькая – с ямочками на коленях – супруга капитана яхт-клуба, известного банкира из родовитой семьи, потрясая книгой Джеймса Болдуина «В следующий раз – пожар», с отчаянием, сквозь зубы, заявила подруге: «Дорогая моя, так будет со всеми нами!»
Подобное высказывание тогда, в 1947 году, не могло показаться мне таким уж точным. В ту пору черный бегемот хоть и начинал шевелиться, но все еще дремал и не считался большой проблемой для Севера. Возможно, по этой самой причине – хотя, честно говоря, я готов был взорваться от непростительных оскорблений со стороны янки, выпадавших иной раз и на мою долю (даже добрый старина Фаррелл позволил себе несколько довольно едких выпадов по моему адресу), – я действительно чувствовал в глубине души бремя позора от принадлежности (хочешь не хочешь, приходилось это признать) к тем закоренелым недочеловекам-англосаксам, которые истязали Бобби Уида. По милости этих уроженцев джорджийской глубинки – обитателей, как выяснилось, того поросшего сосняком побережья близ Брансуика, где трудился, страдал и умер мой спаситель Артист, – шестнадцатилетний Бобби Уид стал одной из последних и, безусловно, наиболее запомнившихся жертв суда Линча на Юге. Ему приписали преступление, очень похожее на то, какое якобы совершил Артист, – настолько классическое, что, право же, это походило на гротесковое клише: он то ли пялился, то ли приставал, то ли подъезжал к простодушной дочери владельца придорожной лавчонки (какое он на самом деле нанес ей оскорбление, так до сих пор и не выяснено, хотя это было что-то близкое к насилию), звали девицу Лула – еще одно клише, но тут никакого подвоха: несчастное заячье лицо Лулы смотрело насупясь со страниц шести столичных газет! – и оскорбленный папаша немедленно принял меры, призвав к самосуду.
Я читал об этой средневековой мести крестьян всего неделю тому назад, стоя в магазине, в центре Лексингтон-авеню, между невероятно толстой женщиной с пакетом от С. Клайн и маленьким пуэрториканцем в куртке водителя автобуса, лизавшим цветное мороженое на палочке и так насандалившим волосы бриллиантином, что сладковатый запах гардении бил мне в нос, пока он заглядывал в мой номер «Миррор», рассматривая вместе со мной помещенные там снимки, словно сделанные в аду. Еще живому, Бобби Уиду отрезали все его мужские принадлежности и засунули в рот (это не было запечатлено на пленке), а умирающему, но якобы все понимавшему, ему выжгли факелом на груди змееподобную букву «Л», означавшую – что? «Линч»? «Лула»? «Люби закон»? «Любовь»? Натан все еще продолжал с пеной у рта что-то мне доказывать, а я вспоминал, как, спотыкаясь, вышел из поезда метро, поднялся наверх, на яркий летний свет, заливавший Восемьдесят шестую улицу, где стоял запах венских колбасок, и лимонада «Джулиус», и нагретого металла вентиляционных решеток метро, и, точно слепой, прошел мимо кинотеатра, где показывали фильм Росселлини, который я приехал из своего далека смотреть. В тот день я не пошел в кино. Вместо этого я очутился на Грейши-сквере, что на набережной у реки, и стоял, уставясь будто в трансе на изуродованные городом островки на реке, тщетно пытаясь стереть из памяти изувеченного Бобби Уида и бормоча – казалось, бесконечно долго – строки из «Откровения Иоанна Богослова», заученные еще в детстве наизусть: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет…»[52] Возможно, такая реакция была чрезмерной, но… ах, господи, если даже и так, плакать я все равно не мог.