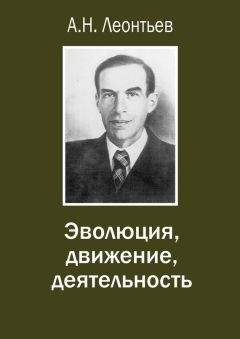Алексей Ильин - Время воздаяния
Так прошло лето, осенью мы сняли небольшую квартиру в городе, я, наконец, завел там себе кабинет и рабочий стол; к нам любили заходить друзья и просто начавшие появляться понемногу почитатели моих стихотворных трудов. Все бывавшие там (как мне также передавали друзья) вспоминали затем атмосферу необычайной приветливости и покоя, царившие в этой квартире с мягкими сероватыми тонами обоев, старой, но вызывавшей уважение своими благородными формами мебелью, приют вдохновения и возвышения от слякотной городской суеты.
Но только лишь мы, одни лишь мы сами знали, что скрывается за этим внешним видом, что выползает изо всех щелей, стоит лишь закрыться двери за случайным посетителем, какая горечь повисает в воздухе к вечеру, в воздухе, еще пронизанном золотым светом заходящего осеннего солнца; каким болезненным, противоестественным чувством наполняется столь выстраданный нами обоими союз.
Передо мною теперь на столе выцветшие, почти истлевшие лоскутки моих писем, что писал я со времени нашей первой же встречи с Ней — шестнадцатилетней еще тогда девочкой — обрывки черновиков: что делала она с самими письмами, было мне, разумеется, неизвестно… Они здесь, предо мною, я раскладываю их на столе, будто сухие листья, читаю безумные, отчаянные строки, что и прошлой зимою — еще до нашей свадьбы — вплелись в этот горький, никому теперь уже не нужный гербарий:
«…пишу Вам как человек, желавший что — то забыть, что — то бросить — и вдруг вспомнивший, во что это ему встанет. Помните Вы — то эти дни — эти сумерки? Я ждал час, два, три. Иногда Вас совсем не было. Но, боже мой, если Вы были! Тогда вдруг звенела и стучала, захлопываясь, эта дрянная, мещанская, скаредная, дорогая мне дверь подъезда. Сбегал свет от тусклой желтой лампы. Показывалась Ваша фигура — Ваши линии, так давно знакомые во всех мелочах, изученные, с любовью наблюденные. На Вас бывала, должно быть, полумодная шубка с черным мехом, не очень новая; маленькая шапочка, под ней громадный, тяжелый золотой узел волос — ложился на воротник, тонул в меху. Розовые разгоревшиеся щеки оттенялись этим самым черным мехом. Вы держали платье маленькой длинной согнутой кистью руки…»
Как все это было мне дорого когда — то — что заставляло меня не видеть очевидного, надеяться на безнадежное?
«…когда я догонял Вас, Вы оборачивались с необыкновенно знакомым движением в плечах и шее, смотрели всегда сначала недружелюбно, скрытно, умеренно. Рука еле дотрагивалась (и вообще — то Ваша рука всегда торопится вырваться). Когда я шел навстречу, Вы подходили неподвижно. Иногда эта неподвижность была до конца…»
«…и вдруг, страшно редко, — но ведь было же и это! — тонкое слово, легкий шепот, крошечное движение, может быть, мимолетная дрожь, — или все это было, лучше думать, одно воображение мое…»
Если бы я знал тогда, к чему приведет меня и — Её, Её! — это мое «воображение»… Отчего, зачем я был так ослеплен невесть откуда почувствованной мною идеей о своем новом рождении, новом предназначении — для Нее! Для Нее… — тайная надежда была столь сильна, чаянье мое было столь горячо, что…
«…все, что здесь описано, было на самом деле. Больше это едва ли повторится. Прошу впоследствии иметь это в виду. Записал же, как столь важное, какое редко и было, даже, можно сказать, просто в моей жизни ничего такого и не бывало, — да и будет ли? Все вопросы, вопросы — озабоченные, полузлобные… Когда же это кончится, господи?»
Когда же это кончится? Когда это кончится?! Когда?!
Скоро все кончится это. Уже известен финал, и режиссер, выглядывающий из — за кулис, уже отдает последние распоряжения рабочим сцены, что по окончании представления должны скоренько убрать синие августовские, опрокинутые на землю, нарисованные водяными красками на грубом холсте небеса; желтеющие золотыми, клонящимися к земле колосьями картонные нивы, разобрать, очистить место представления, чтобы наутро не мешало ничто ежедневному рынку, торжищу, со своими мясными и рыбными рядами, лавками зеленщиков, палатками карточных шулеров, превосходящей всякое человеческое воображение ловкостью своих гениальных пальцев обманывающих простаков и вытягивающих последние гроши из их дырявых карманов… Среди них — причем по обе стороны карточного стола — будут и сегодняшние актеры, заставляющие вас плакать, смеяться, заставляющие вас ворчливо обсуждать очевидные всякому искушенному театралу недостатки пьесы, ее длинноты, повторы… Повторы… Повторы…
«Мне было бы страшно остаться с Вами. На всю жизнь — тем более. Я и так иногда боюсь и дрожу при Вас незримой. Могу или лишиться рассудка, или самой жизни. Это бывает больше по вечерам и по ночам. Неужели же Вы каким — нибудь образом не ощущаете этого? Не верю этому, скорее думаю — наоборот. Иногда мне чувствуется близость полного и головокружительного полета… Тогда мое внешнее спокойствие и доблесть не имеют границ, настойчивость и упорство — тоже. Так уже давно, и все больше дрожу, дрогну. Где же кризис — близко, или еще долго взбираться? Но остаться с Вами, с Вами, с Вами…»
С Вами… В первые же дни после венчания мне открылось, что моя objet, моя Она, эта двадцатилетняя девушка: с ее холодностью и капризами, с ее надуманными «социальными идеями», милая, но не ослепительная, способная, но ни в чем особенном не талантливая — есть истинная дочь этого мира, чистая, свободная от малейших следов семени зла, которым сплошь засеяна была окружавшая ее бескрайняя нива ее родины. И — вот: мое служение Ей; вот: мое преклонение пред Нею; вот: мое немое обожание, даже и до самоотречения; и вот: ее — как теперь становилось ясно — инстинктивная холодность, ее суровость, ее страх перед склонившимся перед нею, рабски послушным ее воле — но совершенно чуждым началом, целым враждебным — ей, беззащитной — миром, что не спросясь, пал к ее ногам.
Она жаждала, просила любви — обычной, плотской; радости, что доступна даже ничтожным тварям, кружащимся в суетливом вихре бытия, и — не получала ее; она ждала, томилась, ночи напролет бессонно лежала в напряженном ожидании чего — то, что было — к ужасу и стыду моему — невозможно. Я мог поклоняться ей, я мог боготворить ее, мог слагать в ее честь и славу прекрасные стихи — кто бы помнил ее теперь, если бы не они? — я мог отдать, если бы понадобилось, за нее свою жизнь, но я не смел — и не мог — коснуться ее, чтобы вместо всего этого дать ей то простое, но только человеческое счастье, которого жаждала она, с каждым месяцем все более и более.
Я, к еще большему стыду своему, не мог, не в силах был открыться ей, объяснить настоящее положение вещей и свое поведение; я, конечно же, же принялся теоретизировать о том, что нам и не важна физическая близость, что это «астартизм», «темное» и бог знает еще что. Но она, доводя меня до настоящего отчаянья, отвечала, что любит весь этот, еще неведомый ей мир, что она его хочет — и мне приходилось наспех сочинять опять теории, что такие отношения, дескать, не могут быть длительны, что в результате, пресытившись ими, мне неизбежно придется уйти от нее к другим. «А я?» — упрямо спрашивала она. «И ты также», — оставалось ответить мне только. Но это приводило ее в сугубое отчаяние; ей казалось, что она отвергнута, не будучи еще женой, что в ней на корню убита основная вера всякой впервые полюбившей девушки — в незыблемость, единственность; и в такие вечера рыдала она со столь бурным отчаянием, что я готов был наложить на себя руки, не зная, как ее успокоить.
Все это, конечно, не могло продолжаться долго без какого — либо исхода; через пару лет такой жизни — мучительной для нас обоих — у нее вспыхнул еще более — если это только вообще возможно — безумный роман с одним из моих ближайших друзей, которого я очень любил и ценил, но который по крайней неуравновешенности своей поэтической натуры то делал настоящие безобразные сцены, то клялся нам обоим в вечной дружбе, то увозил ее невесть куда, давая мне горькую надежду, что мучения мои, наконец — пусть гадко, позорно, но — закончатся, то, наконец, (снова повтор?) вызвал меня на дуэль, которая также расстроилась — не помню, почему — в последнюю минуту, когда мы уже выехали в росистый и еще молчаливый ранний утренний лес… Я же потом и успокаивал и утешал их обоих… Кстати, между ними так никогда по — настоящему ничего и не было, несмотря на все эти цыганские страсти: и, как мне кажется, также — не спроста.
«…когда я влюбился в те глаза, в них мерцало материнство — какая — то влажность, покорность непонятная. И все это было обманом. Вероятно, и Клеопатра умела отразить материнство в безучастном море своих очей…»