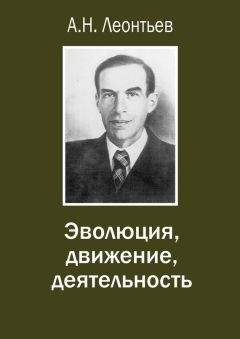Алексей Ильин - Время воздаяния
Я понял, что Лили, оставшаяся теперь где — то на далеком и уже почти не видном в тумане берегу, который собственной волею я покинул в погоне за своей всегда ускользающей от меня нитью судьбы, снова оказалась права.
Так сидел я, прислушиваясь к своим ощущениям и доносившимся до меня звукам долго, чуть ли не до обеда. Под конец мне стало казаться, что я снова вижу Лили — именно там, на том самом берегу, от которого я отплыл: я потянулся к ней душою через разделявшее нас водное пространство, но оказалось, что это я просто задремал — сапог мой соскользнул с покрытого скользкой тиной корня, и я со всего маху плюхнулся прямо в черную вонючую воду, подняв целый черно — зеленый фонтан. В пруду было, разумеется, неглубоко: я встал на ноги, чуть увязнув в донном иле, и расхохотался. Две пичужки, при моем феерическом падении сорвавшиеся было с ветки росшего невдалеке бузинного куста, и однако же усевшиеся обратно обсуждать какие — то свои дела, снова вспорхнули и, уже не задерживаясь, скрылись в лесной чаще. Я кое — как отряхнул грязь и ряску и двинулся домой.
* * *Но берег — дальний берег, к которому я стремился, видя в нем обновление и давно чаемое мною преображение в этом мире, смотрел на меня издали суровыми неприступными скалами, о которые бессильно разбивались темные и тяжелые волны прибоя.
Странная моя повелительница была ко мне по — прежнему холодна; я, бывало, часами дожидался у подъезда ее курсов, чтобы лишь увидеть безразличный и даже враждебный взгляд; временами она разрешала проводить себя, и я все забегал вперед, стараясь взглянуть ей в лицо, но она глядела так же хмуро перед собою и на взгляды мои не отвечала.
От отчаяния я пытался — и не без успеха — волочиться за другими знакомыми барышнями, недостатка в которых осенью и зимой в столичном бомонде не было. Она, казалось, не замечала этого, или относилась с какой — то брезгливостью, словно я оправдывал ее худшие ожидания обо мне; и, несмотря на это, иногда вдруг оттаивала: мы подолгу разговаривали — о литературе, религии, обо всем на свете — я начинал чувствовать протягивающуюся между нами духовную нить, но — на следующий же день все возвращалось к прежнему, и я наконец покорился этому неведению и боли от ее всегдашней необъяснимой суровости.
Ко всем прочим моим душевным страданиям добавился в тот год и нараставший разлад с мамой, которая всегда была экзальтированной нервической особой, и не раз даже ездила по этой причине на курорты, лечить расшатанные нервы (как говорили, одним из первых толчков к этому был неудачный брак с моим отцом). В течение лета и осени она все более неприязненно стала относиться к предмету моей страсти и даже болезненно ревновала, когда знала, что я уехал в усадьбу к соседям. Осенью это приобрело уже серьезные формы — у нее начались припадки, вызывали доктора; он качал головою, поил маму валериановыми каплями и советовал ехать на воды. Сложившегося положения все это, разумеется, никак не улучшало. Моя — я уже так называл Ее про себя — Любовь будто нарочно разжигала эту вражду, отзываясь о маме всегда крайне резко и на грани пренебрежительности. Я горел, как в адском пламени, но изменить ничего не мог.
В то же самое время эти мои душевные мучения удивительным образом, будто в насмешку, или в виде какого — то неловкого утешения стали сопровождаться довольно неожиданным для меня возрастанием моей известности как поэта. Меня уже приглашали в салоны, мои стихи входили в моду — что, кажется, сердило Ее еще — если только это возможно — больше.
К весне следующего года началось и также вошло в моду — впрочем, только в нашем маленьком кружке — хождение близ островов и в поле за старой деревней, где происходило то, что я определял, как Видения. То были необычайной, фантастической красоты и по своему духовному воздействию ни с чем не сравнимые закаты — кроваво — алые, наполнявшие своим неземным сиянием полнеба, каких не было видано никогда, ни до, ни после того времени. Мы принимали эти Видения как весть о грядущем обновлении мира (что впоследствии и случилось), и сразу же выяснилось, что есть среди наших светских знакомых «видящие» их, но также и есть их «не видящие»; «видящие» образовали вокруг нас с моею Любовью — которая, разумеется, также была «видящей» — этот самый тесный кружок, состоявший из молодых литераторов, художников и даже одного богослова — сына добрых наших знакомых из семьи, давшей два замечательных и великих ума того времени, уже много лет владевших мыслями просвещенной и стремящейся к высокому молодежи.
Так начиналось то, что затем было названо нами — «мистическое лето». В том же мае я впервые попробовал «внутреннюю броню» — я стал пытаться ограждать себя «тайным ведением» от Ее суровости. Это, по — видимому, было преддверием будущего «колдовства» — так же, как и мое необычайное духовное слияние с природою. Началось то, что «влюбленность» моя стала меньше призвания более высокого, хотя объектом того и другого было одно и то же лицо. Далее следовали необыкновенно важные «ворожбы» и «предчувствие изменения облика». Тут же получали смысл и высшее значение подробности — незначительные с виду — и явления природы: болотные огни, зубчатый лес, свечение гнилушек на деревенской улице ночью… Никто, никто конечно же, даже Она Сама, не ведали, не могли ведать истинного корня, истинного источника этой моей — для многих внезапной — привязанности к столь непривычным для городского человека вещам — но я вел их к ним, и они доверчиво шли за мною, неосознанно проникаясь тем же чувством, носителем и проповедником которого был я теперь.
Все эти странные выражения, употребленные мною, весь этот тайный язык был доступен только нам и казался бессмыслицей за пределами нашего кружка; однако даже и сам я не взялся бы выразить на бумаге точный смысл понятий, которые им обозначались, удовлетворяясь тем, что видел понимание в глазах моих тогдашних единомышленников и — конечно, Ее, Ее глазах — серых, серьезных, в которых, казалось, спит до времени глубинная мировая женственная мудрость. И моя Любовь проявляла тогда род внимания ко мне: вероятно, это было потому, что я сильно светился; я был так преисполнен высоким, что перестал жалеть о прошедшем.
В тот год я наконец перевелся на историко — филологический факультет, решив окончательно и бесповоротно посвятить себя своему новому служению, учиться владению обретенным мною оружием — бескровным и прекрасным — и возвестить, наконец, миру дольнему приход зари обновления и скорого соединения с миром горним. Я истово в это верил.
* * *Так, или примерно так — прошел и еще один год. Однако последовавшая затем весна ознаменовалась для меня выходом в печать большогоцикла моих стихотворений, которые до того известны были лишь в списках или устном чтении в литературных салонах. Критика встретила мой дебют сдержанно — доброжелательно, но сам я воспринимал это событие, как первый шаг на пути к исполнению своего нового предназначения; внутреннее счастье мое было столь безмерно, что я даже временно примирился со всегдашней холодностью Той, ради которой и вступил на этот свой новый путь, от которого ожидал не одних лишь радостей, но трезво понимал, что пройти его до конца может оказаться весьма и весьма нелегко.
Я примирился и свыкся со своей ролью настолько, что совсем успокоился, перестал терзаться и результатом этого стало необыкновенное: в один из летних дней я осмелился сделать Ей — моей владычице и кумиру — предложение руки и сердца. Она встретила этот порыв в своей обычной уже манере насмешливой отстраненности, но через пару дней ответила — к моему изумлению — согласием!
Золотые трубы возвестили об этом в небесных чертогах, и ангелы на небесах осыпали меня лепестками нежнейших роз — белых и нежно — кремовых, пока я мчался верхом к — Ней, пасть перед Нею ниц, или заключить Ее в свои объятия. Однако Она встретила меня довольно буднично, хотя и — наконец — то — приветливо. Мы поговорили, решили, что будет помолвка; обсудили много и других нужных при таком деле вопросов.
Как это ни странно, я не помню венчания. Помню лишь очень хорошо, что после нам отвели отдельный домик на отшибе от остальной усадьбы: всегда — и утром и вечером — будто наполненный горячим медом солнечных лучей; род флигелька, двором примыкавший к краю большого пшеничного поля. Утром вставали мы и, согреваемые ласковым солнцем, об руку шли по дороге к усадьбе: я — в белой косоворотке, моя Люба — в вышитой льняной кофте и юбке: красивые, статные, покойные особенным покоем молодых супругов, будто — как рассказывали нам нарочно приходившие смотреть на нас друзья — молодые боги, нечаянно, или по милости своей посетившие этот край и с каждым шагом наполнявшие его благодатью. Солнечные лучи золотили наши волосы — и видевшие нас изумленно передавали, что как бы золотые нимбы сияли над нашими головами.