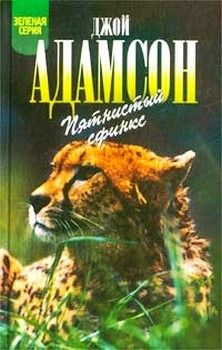Иван Зорин - Письмена на орихалковом столбе: Рассказы и эссе
А что если таков закон? Какой-то жестокий императив, из которого, очевидно, и проистекает ненависть творца к своим творениям. Будь то Бог, «ломающий людей», или Крон, пожирающий своих приносимых Реей новорожденных младенцев, как символ всепоглощающего времени вообще, или времени, страдающего все тем же парадоксальным комплексом ненависти и потому уничтожающего все свои творения, или Гонкуры, ненавидящие по завершении свои произведения, или жгущий остатки «Мертвых душ», в чьем названии сиюмоментно мне грезится не общепринятый, а узко контекстуальный символ мертворожденного, а вернее умершего для автора в процессе своего рождения проbзведения, шизотимичный Гоголь, и много, много других, включая сюда и Данилу-мастера из сказки Бажова, вдребезги разбивающего чашу (без явных на то причин, ведь она — шедевр в чужих глазах!) с криком (или шепотом): «Не то, не то…», — слова, знакомые любому Мастеру.
Итак, везде в перечисленных (и в массе передуманных за время их написания) случаях мне чудится одна и та же причина. Один и тот же закон вражды замысла и реализованной формы. Вероятно, я открываю велосипед, кропая эти строки. Но я никак не могу — о, безграничность авторских притязаний! — смириться с тем, что бурлящее во мне от единственно возникшего образа или группы образов чувство непременно неодназначно (или совсем не так!) выльется на бумагу (быть может, долгие занятия математикой, чей искусственный язык гораздо беднее и уже естественного и допускает значительно меньшее количество толкований и трактовок (вспомним Гете[109]), внушило мне ощущение однозначности в реализации плана).
По поводу замысла и формы упомяну также гениальную (правда, слегка затасканную) формулу Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь!» и не менее известный начальный фрагмент его стиха: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…» В них — прямое созвучие моим мыслям. Вернее, тому изумлению, которое влечет открытие принципиальной невозможности воплотить родившийся замысел буквально.
Наконец, в качестве выхода из тупикового чувства горькой и вечно остающейся на дне души неудовлетворенности (правильнее будет сказать — в качестве одного из выходов) изложу концепцию Владимира Соловьева о свободной теургии, то есть сотворчестве человека с Богом. Это переложение версии Соловьева несколько противоречит моим изначальным высказываниям, но я и не стараюсь придерживаться здесь последовательности и какой-то логики, а скорее следую наплыву чувств, ибо эссе пишется сразу, целиком: оно ведь как ребенок — либо он есть, либо его нет.
Итак, свободная теургия и есть непосредственное соединение личного и всеобщего, личности и тотальности, поскольку всякое действие личности перестает быть нормой ее самоопределения и самоотделения от всех остальных. И, скажем, художественное творчество перестает быть только символическим творчеством формы, вечным ее поиском и вечной неудачей, вечным недовоплощением замыслов. Оно становится творчеством жизни.
Хотя, если говорить откровенно, я принимаю и понимаю весь жалобный негатив пересказанного и мало верю, да и чувствую, его позитив. Мне все же ближе выдумка Борхеса об одном ересиархе из фантастической страны, ненавидевшем зеркала и совокупления, как умножающие все сущее. Может быть, в самом деле на человека наложено табу на умножение сущностей? Может быть, ему в самом деле запрещено плодить комментарии к миру? Тогда становится естественной — уже как кара! — ненависть к своим творениям, становящимся сущностями, монадами, вопреки какому-то нелепому, но данному нам извне закону неумножения.
Или по закону сохранения (чего? И если законы сохранения вообще действуют?) эта ненависть есть всего лишь психологическая реакция, отрицательная потому, что она дополняет позитивность созидания, позитивность «овеществляемости»?
А может быть, замысел — синоним платоновской идеи — будучи всегда неизмеримо выше и чище содеянного, то есть того или иного своего воплощения, является недостижимым идеалом, и Бог жестоко мстит нам, изредка исполняя наши желания, наши жалкие попытки претворения и оформления этого абсолюта?[110]
Кто знает. Можно только гадать. Да, только гадать. Но довольно. Пора кончать, и вовсе не потому, что тема эта (как, впрочем, и любая другая — сосуд Данаид) исчерпалась, а потому, что описываемое мною чувство отвращения уже начинает охватывать меня все сильнее. Теперь оно обращено к этому рыхлому, безнадежно сырому и столь вяло мотивированному эссе.
ПО ПОВОДУ ТОНА
Я не знаю, что такое искусство. Да и никто, что бы ни говорил, не знает. Нам дано видеть лишь некоторые аспекты этого таинственного образования духа, причем оценка наша обречена на субъективность. Здесь мне бы хотелось добавить к такому же бескрайнему, как и искусство в целом, полотну литературы несколько мелких штрихов.
Бодлер безусловно прав: Эдгар Аллан По завораживает прежде всего торжественностью своих интонаций. «Раньше всего чувствуется, что речь идет о чем-то важном», — пишет он, слагая дифирамбы американцу. Торжественность — основная нота мастера «ужасной» новеллы. Почти все его произведения звучат на ней, и в этом смысле По можно причислить к ярко «монотонным» писателям. Выделим их.
К данной когорте относится Борхес. У него своя главная нота. В его текстах сквозит скрытое превосходство и брезгливая ироничность. Он слегка брюзжит, как старый, умудренный лектор, и позволяет причудливое кокетство, чуть позируя перед аудиторией. За строчками Борхеса так и слышится тихий, но поставленный и отточенный годами репетиций, а потому до безумия уверенный голос, который снисходит, которому якобы уже давно опостылел предмет беседы, где для него нет темных пятен, но, вынужденный подчиняться какому-то заведенному порядку и какой-то высшей администрации, Борхес капризно морщит губы и лоб, издавая вечное, как мир: «Ну что ж, господа, приступим…» Это эпическое спокойствие (синоним наигранного безразличия) Борхеса, вкупе с его дидактически категоричной и шокирующей манерой бравировать эрудицией, манерой, которая задевает струны комплекса неполноценности и заставляет, как детей за волшебной флейтой, послушно брести за его эпатирующим бормотанием.
Франц Кафка, повествуя, предстает до болезненности застенчивым человеком, немного ерником (последнее качество роднит его по тону с Достоевским).
Подражая Кафке, вернее, следуя традиции его фантастического реализма, итальянец Буццати пишет о диковинных вещах нарочито обыденно, так, словно человечество состоит только из подписчиков газет. Однако эта детская наивность, порой граничащая с примитивом, странным образом подкупает, воспринимаясь как искренность. Местами она достигает высот откровений и лиризма.
Конечно, эти давящие на подсознание эффекты тона достигаются не ловкой мистификацией — это просто невозможно, — они отражают характер и структуру мышления самих авторов, а проще — их сформированный годами вкус. И не только литературный. Борхес родился ворчливым стариком и библиотекарем. Буццати всю жизнь был репортером, По — невропатическим аристократом и алкоголиком.
Стилевые обертоны Кортасара — это разорванность, метания и скачки пульсирующего потока сознания, нашедшие выражение в бесчисленнывх дефисах, тире, вставках, смене шрифтов и произволе танца знаков препинания.
Набокову присущ тон многозначительного и элитарного скептика. Обделенность конструкторской фантазией он с лихвой компенсирует словотворчеством. В этом он — сноб. Его девиз: «Мне нечего сказать — пусть за меня говорит язык», его кредо — вариант рефрейминга, окультуренного шаманства. Отсюда изощренность непрерывных метафор как части его вербальной магии с ее обволакивающим дурманом, трудность в улавливании сквозной идеи и то смутное ощущение неудовлетворенности, которое оставляют по прочтении красивые набоковские фантики, оборачивающие пустоту.
Единое, ровное дыхание тона особенно важно в коротких рассказах и эссе. Здесь оно непременно, ибо таков закон этого жанра, где главное — ракурс.
Таким образом, суть рассмотрения приведенных примеров может быть сформулирована в утверждении: оригинальность в художественном творчестве достигается по большей части хорошим вкусом, позволяющим отобрать материал должного уровнями удачно взятым тоном. Именно (и всего лишь!) они-то и определяют силу воздействия и меру индивидуальности.
HORA MORTIS[111]
Сегодня, в один из длинных и меланхоличных вечеров осени девяносто второго года, когда за окном, словно пук брошенных кем-то на холст едва различимых линий, моросит дождь, а неслышное, как паук, время ткет свою извечную паутину из одиночества и печали, мне пришла на ум идея составлять антологию смертного часа человека. Я вспомнил, что многие — нет нужды в их перечислении — предавались этой горькой забаве, но поля скорби в Аиде широки, и выбор для подобной антологии — увы! — бесконечен.