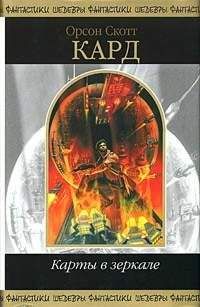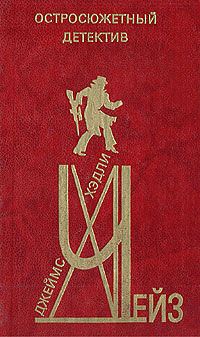Феликс Кандель - Первый этаж
– Вылазь,– повторила с угрозой.
– Как вылазь? – сощурился хитро. – Это такси. Ты шофер, я пассажир. Я плачу, ты вези.
И повернул ручку счетчика.
– Вези, милая, вокруг дома вези. Ты меня вези, я тебя уговаривать буду. Грибницу заложим, шампиньоны вырастим. Ты их видала хоть раз, шампиньоны?
Аня привычно опустила руку под сиденье, поудобнее взялась за монтировку.
– Вот я тебя сейчас мигом уговорю...
– Девка, – пригрозил весело, – я проголодался, Не играй с огнем!
– Пошел отсюда!
Изловчился, обхватил ее, прижал к себе – не вздохнуть. Сдавил сильно, стиснул, пальцем пощупал ребрышки, потискал бока, нескромно прошелся по спине сверху донизу, сказал с хохотком:
– Ишь, здорова... На тебе воду возить.
– Пусти, собака!
– Ништо... Не боись. Не нужна ты мне. Раньше бы, может, поиграл, а теперь – без надобности.
А сам уже распалялся больше и больше, говорил торопливо, нутряным голосом:
– Чего ты кочевряжишься? Плохо тебе? Я с сынами все сделаю, только рот открывай. Счастье свое, дура, счастье упускаешь.
И опять криком голодного, взбесившегося живота:
– Дела понаделаем – ахнешь! Ты только дан! Дай землю! Озолочу... Обеспечу... Жратвой завалю... Дай! Ну, дай же!..
Аня с трудом выгнулась, резко ударила головой по лицу. Он охнул, разжал руки, ощупал нос:
– Ладно, девка. Ладно, золотко... Второй раз прощаю. А там берегись.
Вылез из машины, сказал невзначай – выпустил коготки:
– А чего это мужик у тебя с приветом, а?
– Тебя не спросили.
– Смотри... Вот напишу в психушку, пусть проверят.
Аня завела мотор, сказала грустно:
– Дурак ты, дядя. И вправду – дурак.
– Шучу, – хохотнул. – Балуюсь. Кати себе. Вечерком еще поговорим.
Дождалась, пока он ушел со двора, вывела машину за ворота. Проскочила мимо на скорости, свернула под арку, а он поглядел вслед, поддернул на животе пижамные брюки, сказал ласково:
– Ништо, милая. Не таких уламывал.
А она уже гнала по улице, тряслась от лютой злости. Только потом заметила, что счетчик не выключен, накрутила на свой карман. Подала на стоянку, покатала еще пару часов, добила план, отогнала машину в парк. Помыла, переставила назад аккумулятор, пошла к механику.
– Учти. Чтобы утром был новый.
А тот на нее не смотрит. Ходит между машин, в углы заглядывает, будто делом занимается.
– Нечего, нечего... Со старым обойдешься.
– Да я с чужим катала.
– Катала сегодня, откатаешь и завтра.
– Тьфу ты!
И пошла из парка.
У ворот длинной вереницей стыли машины. В очереди на мойку.
– Ишь ты, – сказала. – Проскочила.
Встала на тротуаре, пристально глядела на прохожих, думала сосредоточенно. А о чем думала? Так, ни о чем.
Тут ей посигналили.
– Анюта!
Стояла в очереди новенькая "Волга", шофер из машины глядел неотрывно.
– Димыч, – сказала радостно. – Здорово!
– Здорово.
Голова у Димыча чубатая. Усы у Димыча вислые, как у запорожца. Лицо круглое, потное, нос толстый, мятый, глаза рачьи, навыкате. Сам Димыч большой, широкий: когда за рулем сидит, места для пассажира не остается.
– Стоишь?
– Стою.
– Чего сразу не позвал?
Димыч взглянул строго, сказал серьезно:
– Глядел на тебя.
– Чего глядеть? – пыхнула. – Вон, молодых сколько... На них и гляди.
Димыч ответил кратко:
– Кому что.
Помолчали. Поглядели друг на друга.
На сиденье у Димыча расстелена газета, а на ней – хлеб, лук, соль, помидоры, сало кубиками. В термосе – чай.
– Садись, – позвал. – Поешь.
– Не хочу я... Душно.
– Помидор возьми.
– Помидор возьму.
Димыч откусил кусок хлеба, обмакнул лук в соль, тоже откусил, потом взял помидор, потом сало.
– Чаю попей.
– Жарко...
– Жарко, – согласился и выпил стаканчик. – Жарко, а хорошо.
Аня облокотилась о капот, спросила лениво:
– Как с планом?
– Нормально.
У Димыча всегда нормально. Димыч в ударниках ходит, рядом с Аней на почетной доске висит, парочкой, всем на загляденье. Здоровый, ленивый: как сядет с утра за руль, так до вечера не вылезет. Ездит спокойно, не торопясь, с пассажирами балагурит, с машиной разговаривает. Будто не на такси – на волах возит. Хитрый, черт, опытный: знает, куда податься в неходовые часы, какого пассажира взять. Другие без толку гоняют по городу, высунув языки, а у него без спешки – всегда план.
– Ну, как? – спросил.
Аня будто не поняла:
– Чего как?
– Не надумала?
Уже давно сделал ей Димыч официальное предложение, только она в парк пришла. И повторяет его постоянно, по разу на месяц.
– Нет, Димыч, не надумала.
– Думай. Мне не к спеху.
Аня потупилась, подергала платок за хвостики, поглядела прямо в глаза.
– Димыч, – сказала твердо. – Я Егора не брошу.
– Ты не бросишь, – согласился.
– И Егор меня не бросит.
Димыч промолчал. Опять откусил кусок хлеба, макнул лук в соль, потом взял помидор, потом сало.
– Не бросит! – крикнула. – Не бросит... Чего ждешь, словно сыч? Не сбудется по-твоему... Не сбудется!
Димыч прожевал кусок, сказал ласково:
– Неспокойно тебе, Анюта.
– Неспокойно... – подхватила. – Ой, неспокойно! Я, Димыч, трясусь над ним.
– Вижу.
– Ночей не сплю.
– Ясное дело.
– Страшно, Димыч...
– Куда там.
– Я ведь знаю, знаю: с тобой будет спокойно.
Димыч поглядел глазами рачьими, важно кивнул головой.
– За мной, – сказал, как за стеной.
– Знаю, Димыч...
– Я, Анюта, хозяйственный.
– Знаю, Димыч, знаю...
– Я бы с тебя пушинки сдувал.
– Знаю, Димыч... – А в глазах уже слезы. – Да я прикипела к нему – не отодрать. И не надо. Не хочу по-другому!
– Эх, Анюта, – грустно и невпопад сказал Димыч. – Горе ты мое.
– Горе, Димыч, горе...
Стало так тошно, такая тоска навалилась: сердце тисками сжало.
– Димыч, свези... Свези домой, Димыч!
Димыч подумал чуточку, поглядел на длинную очередь сзади, потянулся к счетчику.
– Сидай.
И сразу, вроде, преобразился:
– Эх, кормилица! Застоялась, родимая!
Включил стартер, но машина не завелась.
– Смотрите, – сказал, – она на меня обиделась. Я ел, она – нет. Прости, родимая: по пути заправимся.
Со второго раза машина опять не завелась.
– Не хочет, – сказал сокрушенно. – Уже дома, в стойле: чего обратно бежать?
– Димыч... Я так доеду.
– Ты что... – Наклонился к приборной доске, сказал с укоризной: – Глупая! Ты погляди, кого везем. Не позорь хозяина.
После этого машина завелась.
– Умница, – похвалил. – Вот за это люблю. Побежали, хорошая, прокатим Анюту.
И они поехали.
Аня приткнулась к дверце, молча глядела вперед, а Димыч привычно хлопал широкой ладонью по рулю, говорил, как с живой:
– Чего разбежалась? Ну, чего? Вот остановлю, будешь тогда знать. Куда? Куда поворачиваешь? Не видишь – знак. Умница! Не торопись. Обходи потихоньку. А этого пропустим. Этого дурака мы пропустим. Вот так. Молодец! Понимаешь, чего надо... – И вдруг: – Что ж ты, падлина, подпрыгиваешь?
Так они и ехали. И приехали на ту улицу. Завернули под арку. Встали у калитки.
– Угощаю, – сказал Димыч и выключил счетчик.
Посидели. Помолчали.
Прошла мимо старая женщина со старой собакой на поводке. Обе дышали тяжело, со свистом, ноги переставляли неуверенно, с трудом.
Аня поглядела вслед, сказала с тоской:
– Димыч...
– Ай?
– Так и помрешь холостяком?
– Так и помру.
– Ты бы женился, Димыч. Старому плохо.
– Без надобности, – твердо сказал он. – Лишнее это дело.
– А если я?.. – крикнула. – Я если?
– Ты – другая статья.
Взял термос, налип стаканчик:
– Чаю хочешь?
– Ничего я не хочу, Димыч... Покоя хочу, покоя.
– Покоя у тебя не будет, – пообещал. – Не жди.
– Не будет, – согласилась горестно. – Нет, не будет...
И застыла, привалившись к дверце, глядела на Димыча скорбными глазами, а он глядел на нее.
Потом она вылезла из машины, и та – будто дожидалась – тихонько тронулась с места.
– Куда? – яростно закричал Димыч. – А попрощаться?
Высунул в окно чубатую голову, сказал тихо:
– Бывай, Анюта.
– Бывай, Димыч.
– Не журись.
– Попробую...
– Эх, кормилица! – крикнул отчаянно. – Покатили с ветерком!
Помигал на прощанье красным огоньком и уехал.
Аня поглядела ему вслед, вздохнула, вытерла глаза, поправила косынку на шее, шагнула через калитку.
– Егорушка...
В доме пусто.
– Егорушка…
Под яблонями пусто.
– Егорушка!..
У забора, на низкой скамейке, скорчился Егор. Подбородок уперся в острые колени, слабые плечи засутулились, худые руки повисли до земли, кисти рук мертво лежали на траве.
– Егорушка, я тут.
Собака шлепнула хвостом по траве, петух повел круглым глазом, а Егор глядел пристально в толстые, неструганные доски, глухой, слепой, утонувший в самом себе, и высоченные дома вокруг следили за ним неотрывно, жадно распахнутыми окнами.