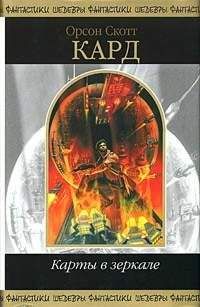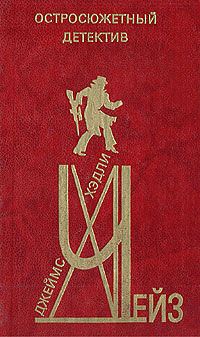Феликс Кандель - Первый этаж
– Махнем, Егорушка. Неужто не махнем? А там в избу зайдем, молочка попросим парного.
Как споткнулся:
– В избу... не надо. Там чужие...
– Ну и не надо, – заторопилась. – На кой нам их молоко? Своего возьмем, в пакетах. Грибов насобираем, ягод, цветов полевых.
– Я, – сказал энергично, – корзинку сплету. Я умею.
– Сплети, Егорушка, сплети, милый.
Егор засмеялся счастливо: видно, оттаял, отогрелся в ее тепле. Разгладилась складка на лбу, распрямились сутулые плечи, глаза заиграли живо: помолодел человек. Аня тоже блаженствовала, наслаждалась в полную силу. Вот она, ее минута, редкая, долгожданная!
– Егорушка, – разливалась соловьем, – что бы нам потолки не побелить? Все – веселее будет. Занавески эти выкину, ситчику куплю светлого, обои переклеим, двери перекрасим. Сколько ждать-то можно, что переселят? Давай уж, милый, тут жить.
– Давай, – соглашался. – Давай жить.
Она так и захлебнулась.
– Вот бы еще шкаф поменять. Срамотища одна.
– А чего? Поменяем.
– И стулья.
– Давай и стулья.
– И кровать новую. Не эту, скрипучую.
– Можно и кровать.
Ложку бросила, вскочила со стула, обняла его сзади, прижалась грудью. Так бы и стояла целый день, от себя не отпускала.
– Егорушка, – зашептала жарко, в самое ухо, – истомилась без тебя, изголодалась... Уж я жду, жду, а ты все чужой.
– Аннушка, – он повернул голову, поглядел близко, влажными глазами, – не сердись ты на дурака. Уж такой тебе достался, неладный…
– Достался!.. – охнула. – Да я и не знаю, кому кланяться за тебя. Что бы я одна?..
– Не говори, – дышал горячо, в шею, – не надо... Ты у меня – спасение мое. Один бы – давно сломался.
– А я! Я-то... Без тебя, как пустая. Никому не нужная...
Егор вздрогнул вдруг, обхватил ее руками, сказал чужим голосом:
– Страшно. Страшно, Аннушка.
– Чего, Егорушка?
– Боюсь. Не повредиться бы.
– Да что ты!
– У меня тут, – показал на голову, – давит чего-то. Такой лучик тоненький, булавочный. Уперся и давит. И жжется. Раньше – редко. Теперь – всегда. Руку подставлю, он через руку давит.
– Егорушка! – перепугалась. – К врачу бы тебе...
– Не... Не надо. Знаешь, – сознался, – вот задумаюсь раз, уйду далеко, он и продавит. Ты не отпускай меня... Слышь? Не давай уходить.
– Не дам! – вскрикнула. – Не отпущу!..
А сама уж тянула, тянула его со стула, утягивала за собой в другую комнату.
– Егорушка! – задыхалась. – Свет мой ясный...
Пошли в обнимку, переплетая ноги, натыкаясь на стулья, на стены. А руки не слушались, головы затуманились, кровь заколотилась в висках. Собака смотрела изумленно, склонив набок лобастую голову. Петух приоткрыл один глаз, понимающе глядел вслед.
– Егорушка!..
– Аннушка!..
– Егорушка!..
11
Грохнули кулаком по входной двери, собака повернулась резко, будто хотела поймать собственный хвост, загавкала хрипло.
– Хозяева дома?
И сразу рухнуло все, осыпалось обломками с неслышным грохотом: валилось на глазах шаткое счастье. Егор напрягся, словно броней покрылся, глядел тоскливо и настороженно, Аня в бессильной ярости выступила вперед, прикрыла его, как зверь прикрывает детеныша.
В дверях встали двое, плотно загородили проход. Тот, давешний, мужичок с тугим животом и старая женщина.
– Здравствуйте, – непримиримо сказала женщина. – Общественность.
Так сказала, будто – "Милиция!" Будто – "Руки вверх!" Будто ворвалась в воровской притон с наганом в руке, поймала, уличила, застукала на месте преступления.
– Категорически вас приветствую, – бодро сообщил мужичок. – Наше вам, ваше нам!
А сам глазом подмаргивал, щекой поддергивал, рукой подмахивал, мол, я это, я, тот, который компаньон, с кем почти сговорились, столковались, снюхались насчет теплицы, грядок, того-сего: редисочка в апреле, клубничка в мае... Я это, я!
– Уходите, – приказала Аня.
– Ну уж, – обрадовался мужичок, – так уж и сразу. Не посидели, не поговорили.
– Я общественница, – гордо сказала женщина. – С одна тысяча девятьсот двадцать третьего года. Меня никто еще не выгонял.
Была она неимоверно худая, высушенная, без признаков мякоти на выпирающих костях, как дистрофик после голодной зимы. Кожа на лице мертвая, сухая, растрескавшаяся: земля пересохшая в бесплодном ожидании дождя. Платье висело на ней случайными складками. Шляпа торчала в неположенном месте. Туфли на ногах мужского фасона. Из туфель выступали наружу тонкие подростковые ноги. Но глаза горели неугасимым пламенем, глаза смотрели в упор, дулами на смертников: неумолимо и беспощадно. Руки она держала за спиной, и страшно было подумать, что она могла оттуда, из-за спины, вытащить.
– Что вы все ходите? – крикнула Аня, горло свело судорогой. – Дома им не сидится...
Женщина выдернула из-за спины ридикюль довоенного образца, сухо щелкнула замком-затвором.
– Вы еще молодая, – сказала жестко. – Не вам учить.
– А чего... – хохотнул мужичок. – Чего мне дома сидеть? На людях веселее.
Был он теперь добрый, ласковый, благодушный. Видно, сбегал домой, отобедал, набил живот доверху, ублажил на время,
– Между прочим, – сказал с намеком, – у меня еще сил – ого-го!
Живо присел на корточки, обхватил ножку дубового стула, на котором дремал петух, легко выжал к потолку. Петух даже не шелохнулся, только глаза прикрыл от ужаса.
– Шестьдесят седьмой годочек, – сообщил радостно. – Берите в долю – не пожалеете.
Стал медленно опускать стул, а петух изловчился, клюнул его в темя.
– Петя, – сказал укоризненно, – ах, Петя, Петя... А вот мы тебя, Петя, в суп. Что тогда запоешь?
Захохотал жирным, мохнатым басом, бурно затряс могучим животом. А глаза глядели зорко, глаза, по обыкновению, чего-то высматривали.
– Свиней не держите? – спросил врасплох. – Я бы держал. – И подмигнул, как своим: – Люблю свининку. Сало – в пять пальцев.
– Прекратите, – приказала женщина. – Что за балаган!
– Ты... – сказал грозно. – Ты мною не командуй. Командир нашелся... Я теперь на пенсии, у меня один командир – Райсобес.
– Я вам не "ты", – отрубила она. – А член домового комитета.
– А я кто? Тоже член.
– Вас вывести давно пора. Пролез в комитет для своих делишек.
– Каких еще делишек? – спросил он с угрозой и выпятил живот. – Ты докажи сначала.
– А вот таких! Мне все известно.
Мужичок сразу подобрался, хохотнул невинно, забормотал скороговоркой:
– А чего? Я ничего. Другие вон чего, и то ничего. А я чего?..
Взглянула с ненавистью, щелкнула замком ридикюля, будто взвела курок:
– Переставьте кривляться!
Она таких в восемнадцатом в расход пускала. Она таких, шкурников пузатых, к стенке ставила. А теперь живи рядом, в одном доме, заседай в одном комитете. Эх, время! Светлое времечко! Куда подевалось?.. Кожанка с ремнями, наган на боку, облавы с налетами, винтовки с пулеметами, пайка хлеба, стылая "буржуйка", кумач на ветру. Видно, кто друг, ясно, где враг. Прошло время – не воротишь. Всех друзей разметало, всех соратников – кого куда. Одна она выжила, засушенный образец для потомков. Времен военного коммунизма. Ах, маевочки, ох, листовочки, ух, казаки, эх, белополяки... Лучше уж с вами сражаться, чем этакое терпеть. Ах, время! Золотое время! Кому досталось – век не забудет, кому облизнулось – жди следующего. Не дождался – помирай так.
– Ну, – сказала Аня. – Чего пришли?
– Наш район, – начала общественница, – взял на себя обязательство. Наш дом – тоже. По благоустройству дворов.
– Тут такое дело, – влез мужичок. – Тут кампания у нас. Второй день заборы ломаем. Со всех палисадников.
– Так ведь ломали уже, – удивилась Аня. – Сколько можно?
– Было дело... – захохотал. – На моей памяти – раз пять.
– Опять зелень загубите. Дали бы силу набрать саженцам, а то ребятишки все потопчут.
– Потопчут, – подхватил мужичок. – Дети наши, как собаки.
– Какие родители, – сказала общественница, – такие и дети. А заборы, гражданка, уродуют наш город. Не к лицу нам огораживаться заборами. Не старые времена.
– Не скажи, – возразил он. – Хороший забор вещь полезная.
– Вы собственник! – взвилась. – Вам бы отгородиться от всех, да и обделывать свои делишки!
– Какие делишки?! – завопил. – Ты чего... Ты докажи сначала!
– Знаю какие. Только учтите: пока я в комитете, ничего у вас не выйдет.
– А чего? – опять стушевался мужичок. – Я ничего. Другие вон чего, и то ничего. А я чего?..
Эх, годы! Золотые годы! Куда укатились? Она ничего не нажила, ничего не накопила. Так и прожила с фанерным гардеробом всю свою жизнь. А в гардеробе – одни плечики. А на плечиках – одно платьице. Мужа в лагерях потеряла, детей не завела: все бегала, старалась, делала, что велели, приближала по мере сил светлое будущее. Солдат. Борец за Идею. Были отклонения, искривления и ошибки, но Идея прекрасна, Идея удивительна, светит ей с тех, незабываемых лет. Она вкусила от первой ее сладости, и никакая горечь не отобьет тот вкус. Эх, годы! Светлые годы! Где вы? Куда закатились? Только замок от довоенного ридикюля щелкает бессильно, вхолостую.