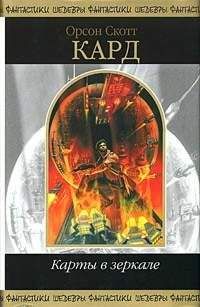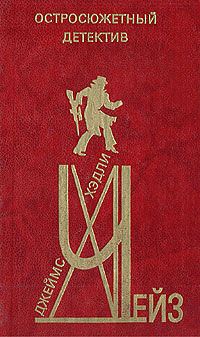Феликс Кандель - Первый этаж
Собака шлепнула хвостом по траве, петух повел круглым глазом, а Егор глядел пристально в толстые, неструганные доски, глухой, слепой, утонувший в самом себе, и высоченные дома вокруг следили за ним неотрывно, жадно распахнутыми окнами.
Аня привычно опустилась на траву, стала его ждать.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Встал дом на месте деревни.
Дом – великан.
Длиной в половину улицы, высотой – за облака.
Дом-домище, целое городище.
Несчетными этажами, неисчислимыми подъездами, несметными сотами-квартирами.
Въехала в дом деревня, да соседнее село, да далекие выселки.
И еще место осталось.
Туда городских поселили.
От токаря до профессора. От музыканта до спекулянта.
Стал дом – ковчег. Всякой твари по паре.
А иных и того больше.
Перемешались, перепутались, расселились вперемежку.
И стали так жить.
Те с этими, да эти с теми.
Объединились под одной крышей.
А интересы поначалу – разные. Интересы – совсем не похожие.
У тех рояль, у этих баян. Те читают, эти под баян пляшут. Те музицируют, эти спать ложатся. Те – каблуком в стенку, эти – щеткой в потолок. Никак друг к дружке не приладятся.
А у гастрономов, у винных отделов, уже приглядываются, прилаживаются по трое. Что городской, что деревенский. Все пока разное, а бутылка уже общая. Все пока неравное, а тут – поровну, до капли.
Сошлись на бутылке.
Помирились на телевизоре.
Те купили, и эти за ними. Те смотрят, и эти не отстают. Одни забросили рояль, другие – баян. Мир, покой и полное взаимопонимание. Общие передачи, общие дикторы, общие телевизионные интересы. Даже проблемы и те общие, о которых информирует чудо-ящик.
Объединились духовно.
Кто не смотрит передачи, тот не живет полноценной жизнью. У кого нет ящика, тот сноб, гордец, просто отсталый человек.
С ним и поговорить не о чем.
Фе!.. Деревня!
А по улицам уже гуляют деревенские дети, ничем в толпе не выделяются. Ни одеждой, ни разговором, ни интересом. Раньше по селу с гармошкой ходили, теперь по городу – с транзистором.
Гуляют деревенские мальчики, цепляются за городских девочек, делают намеки.
Гуляют деревенские девочки, косятся на городских мальчиков, выслушивают заманчивые предложения.
И пошли жениться те на этих.
Пошли штурмовать дворцы бракосочетаний.
Те родители в панике: мезальянс!
Эти – в смятении: не ровня!
А им, молодым, плевать!
Невеста под фатой, жених в черном костюме, у подъезда машины в цветах, куклы на радиаторах, залы в ресторанах.
Сидят за столом ближние и дальние родственники, от новой родни отодвигаются. Этот вилку в кулаке упрятал, та мизинчик оттопырила. Эти частушки голосят, те вальс-бостон танцуют. У этой брильянты прабабкины, у той – брошь пластмассовая. Трубка с пахучим табаком – самокрутка из вонючей махры. Платье вечернее, словно из Парижа – наряды нафталинные, из сундука. Одна мать – сытая, ухоженная, загар из Сочи, прическа от лучшего парикмахера. Другая – попроще, поплоше, погрубее, морщин на троих хватит. Возраст один, а вид разный. Как же оно так? Прожили одно время, под одним флагом, с одними лозунгами, а чужие – дальше некуда!
Горько!
Горькоооо!..
Хочешь – не хочешь, объединились семьями!
Делать родителям нечего. Надо молодым помогать.
Те продали рояль, эти – баян. Купили детям гарнитур с телевизором.
И стало у всех одинаково.
Квартиры – похожие.
Мебель – стандартная.
Одежда – с конвейера.
Отдых – по маршруту.
Объединились бытом!
Только и разницы: у тех собака, у этих – кошка. Те собирают марки, эти – значки. Те под машиной лежат, эти – под мотоциклом. Тем – Пикассо с Модильяни, этим – Шишкин с Репиным.
А то и наоборот.
Не поймешь, где кто. Не угадаешь, кто чей
Разбрелись деревенские по городу, как сумели.
Разобрались, как смогли.
Одни – послабее – подались в алкаши, в уголовники, в мелкий приларьковый люд.
Другие – посметливее – рванули в продавцы, в парикмахеры, в таксисты.
Третьи – потверже – двинули в институты, в науку, за учеными степенями.
Один корень, а ответвлений не счесть.
Живут – хлеб жуют, об урожае не беспокоятся.
А городские?
И городские туда же.
Объединились судьбами!
А бабки опять отстали.
Отстали те бабки, отстали эти.
Не угнаться бабкам за молодыми. Ноги не те. Опять бабки выдают происхождение.
Те – городское, эти – деревенское.
Идет по улице внук с интеллигентной старушкой: случайные попутчики.
Идет по улице внучка с простой бабкой: хозяйка с домработницей.
Те внуков в церковь тащат, эти – в консерваторию. Те – гостинчик пряничный, эти – книжку заумную. Ревность жгучая, обида смертная – внуков не поделить.
Все в городе объединились, одни бабки не объединяются.
Вздыхают тонные старушки по пропавшему, городскому.
Вздыхают старые крестьянки по сгинувшему, деревенскому.
Тем – не так, и этим – не эдак.
А по скверикам, по бульварам уже бегают вперемешку те вслед за этими. Трусцой, рысцой, иноходью. Зарядка. Поддержание сил. Вливание бодрости и веселья. Пробеги, бывало, по деревне, собаки за тобой увяжутся, соседи вслед заплюют. А тут, без прежней нагрузки, побежали деревенские почище городских. И в туристы пошли, в альпинисты, в скалолазы.
Озолоти прежде – с печи не стронется.
Озолоти теперь – на печь не полезет.
Да и где она, эта печь?..
А посреди домов – двор.
Посреди двора – стол.
Закуска с бутылками. Остатки с огрызками. Кожура картофельная. Селедочные хвосты.
Играет гармонист. Женщины топчутся с платочками. Все под хмельком, в летах. Видно, напились, накушались, частушек накричались вдосталь, гуляют на виду у всех по старой привычке. Чтоб народ видел, как им хорошо.
Идут мимо горожане – удивляются. Идет молодежь – ухмыляется. Зубы скалит. Одна бабка старая притулилась у подъезда, глядит с удовольствием. Дряхлая бабка, скрюченная: одна нога в могиле, другая – в больнице.
Ей – уходить.
Ей – поглядеть напоследок.
Тут слухи...
Намеки...
Разговоры с пересудами...
Волнения с надеждами...
Раздают!
Где?
За городом!
Что?
Садовые участки!
Кому?
Кому хошь!
Бери землю, ставь домик, сажай вишню-ягоду.
И рванул город за город.
А деревенские – впереди всех.
Вот они где проявились! Вот они чем отличаются!
Вгрызлись в землю, раскопали, переворошили, удобрили, до комочка разрыхлили, полили обильно потом. Разогнулись передохнуть, глядь, а сосед слева – вечный горожанин, а сосед справа – и того хуже. Тот с лопатой, этот с киркой.
Им-то что до земли?
Им, городским?
Или и в них деревня жива?
Или во всех нас?
Солят, маринуют, сушат, варят, вялят... Припасы семье. Запасы на зиму.
Мечтает горожанин о прохладном подполе для хранения. Мечтает о крытом сарайчике для инструментов. О навозе мечтает горожанин, о семенах, грядках-саженцах. Втихомолку, в рабочие часы, проектирует каркас для теплицы, насос для колодца, опрыскиватель для поливки.
Как ни брыкайся, не уйдешь от земли.
Как ни скрывайся – проявишься.
Как ни уводи себя – проклюнется росток.
Здрасьте, горожане деревенские!
Наше вам, мужички городские!..
ЛЕВУШКА, ЗОЙКИН МУЖ
1
Левушка воротился из гостей пьяненький, насмерть обиженный, в драчливом настроении.
Бесприютно потыкался по углам, покривил губы в гордом презрении, с маху оторвал клок газеты, написал коряво, тупым карандашом по чьей-то физиономии: "Меня обидели!", приколол на видном месте. Уже лежал в постели, а все еще бурлил, подскакивал в возбуждении, грозил кулаком в темные пространства, медленно, содрогаясь, опускался в сонные глубины. Из последних сил рванулся, выдираясь из вязкой тины, закричал задавленно: "Не хочу! Не надо...", пятаком завалился в щель времени. И время, равнодушно чавкнув, сомкнулось над ним студенистой трясиной.
Привиделось Левушке: прыгает по улице с поднятой рукой, озябший, скрюченный, в летних туфельках с перепонками, а машины просвистывают мимо, обдают грязью из-под тугих колес, по-хамски блистают никелем, нагло бибикают в луженые глотки. Передки у машин бульдожьи, радиаторы – зубы оскаленные, фары – зрачки лютые, злобой воспаленные. И ни одна сволочь не сжалится, не притормозит даже: укатывают себе в заманчивые, персональные дали, за недостижимую линию горизонта.
А вокруг – в который уж раз! – чужое, неприютное Беищево, путаные улочки зигзагами, серые панели безликих коробок, грузная туча с мокрым, до крыш обвислым пузом, мелкая, занудная мразь взвешенных в воздухе капель. И неизвестно, как отсюда выбираться, куда идти, в какую сторону, и прохожие не разговаривают бесплатно – требуют сначала денег, а мостовые вскопаны и засажены редиской, тротуары разгорожены заборами на мелкие приоконные клетушки, вдоль трамвайных путей на рыжих рельсах стоят трамваи, а в них живут, в них работают и торгуют, и движения по улицам давно нет. И в каждом окне приплюснутые к стеклу торчат морды, рожи, рыла и щурятся, щерятся, лыбятся, оглядывают, будто поганым языком облизывают.