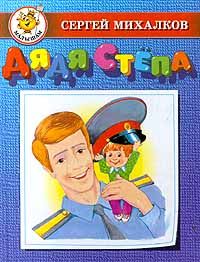Елена Сафронова - Жители ноосферы
— Не знаю. И знать не хочу. Там — жизнь. А в вашем институте — болото.
На призывном пункте райвоенкомата царил вой и стон, майская жара пекла невыносимо, «погоны» расстегивали кителя, распаренные штатские обмахивались чем придется, падали в обморок от духоты… Среди этого Содома и Гоморры перед пожилым майором стоял неулыбчивый юнец и спокойно повторял:
— Хочу служить в Афгане!
В Афган Пашку не взяли. Служить срочную он поехал в Белоруссию, в танковую часть. Из белорусской деревни, унылый пейзаж которой необъяснимо напоминал о Хатыни, его привезли через полтора месяца, спеленутого в смирительную рубашку, бьющегося в конвульсиях, точно гигантский червяк, и воющего матом.
— Деньги есть? — спросил прапорщик в поезде.
— Не про твою честь, — отозвался Пашка.
Двое старослужащих, посланных сопровождать призывников, по знаку прапора скрутили Пашке руки. Прапорщик полез во внутренний карман старого отцовского пиджака. Червонцы, скрученные незаметной для гражданского трубочкой, шмыгнули в опытную руку.
— Хорошо, бля, амеба делится… — приговаривал прапор, пересчитывая деньги.
Пашке хватило сил доплюнуть ему до угреватой физиономии. Прапорщик замер. Не спеша утерся. Сунул деньги в карман.
— Так, салажонок, ты об этом будешь жалеть каждый день службы, понял меня? Чтобы лучше дошло, начнем урок хорошего тона прямо сейчас. Ребя, объясните чмошнику, что он не прав…
Пашке методично, с удовольствием, набили морду и не сразу отпустили — наблюдали, искрясь радостью, как он фыркает собственной кровью из носа.
— Так… так… вот здорово! И поумнеет, и синяков не осталось…
Товарищи по призыву трусливо изучали ландшафт за окном.
— …Ну ты, салага, — сказали ему в казарме после первого же отбоя, — порядок знаешь?
— Не знаю и знать не хочу.
— Чтобы к утру подворотнички были пришиты, а то век будешь очко зубной щеткой драить!
— Ничего я тебе пришивать не обязан.
— Ты как разговариваешь, чмо болотное?!
— А как с хамом разговаривать?
Пашку били все деды казармы, так, что он не смог подняться по команде «Подъем!». Дежурный ротный устроил ему разнос, но, приглядевшись, послал парня в санчасть. Там врач долго пытал Пашку о происхождении синяков, но добился только издевательского: «Споткнулся, упал!».
Били его впредь каждую неделю. Неравно, многие на одного, уже не по злобе, а из садистского любопытства — долго ли еще пащенок будет скалить зубы? Пащенок утратил один клык и половину верхнего резца, заработал шрам от кастета над правой бровью, на своих двоих, немилосердно хромая, перенес перелом мизинца левой ноги, но все равно посылал дедов куда следовало. Противостояние не могло продолжаться, Пашкино слепое упорство дезорганизовало казарму, прочая молодежь внезапно прекратила доиться и угождать…
К сумеркам 14 июля деды услышали по радио, что сегодня — день взятия Бастилии. Кого-то из «духов» снарядили в сельпо за одеколоном, и тот приволок по карманам несколько пузырей «Тройного». Выжрав из украденных другим «духом» в столовой стаканов белесое молочко от бешеной коровки, прапорщик Панатюк, оплеванный Пашкой, внезапно изрек:
— Французы молодцы. Они взяли Бастилию силой. Они сломили сопротивление тирании… Ребя, теперь вы поняли, что надо делать с крепостью, которая не сдается?..
— Уничтожать? — вякнул один из «дедов».
— Если уничтожать, крепостей не хватит… А от них еще может быть польза… Крепости надо — для самых умных повторю — брать силой. Столько раз, сколько сможем. Или захочем. Понятно?
— М-г-му…
— У нас тут есть своя крепость, которая не сдается. А крепости должны падать. И вот мы ее сейчас…
И как Пашка ни дрался, уже приученный держаться насмерть, двадцатирукое чудовище, отпинав его двадцатью ногами, подтащило к прапорщику Панатюку, что удобно расселся на стуле в «красном углу» казармы. После отбоя он и «деды» были здесь божествами. Им подчинялось, казалось, даже время. Рассвет для «салаг» наступал слишком поздно.
— Маменькин сынок, который не любит делиться с хорошими людьми, ты помнишь, что я обещал тебе? — пел вкрадчивым голоском лисы Алисы двухметровый гнилостный детина, прапорщик по сути, по рождению под знаком двойной маленькой звездочки. Панатюк несколько секунд ждал ответа, потом носком кирзача пощекотал снизу мучительно вздернутый подбородок парня.
— Ты, конечно, помнишь. Стесняешься сказать? Или слишком гордый со мной разговаривать? Зря. Потому что я тебе запишу еще одну грубость… И за каждую — слышишь, чмошник? — за каждую буду наказывать. И сегодня, и потом… Ну, вы, долбо…, поставьте его поудобнее…
Пашку сложили в коленях, словно заржавевший циркуль, и поставили перед Панатюком в позе смерда, ждущего княжьего суда.
— Маменькин сынок, я сделаю тебе очень хорошо. Я вы… тебя в рот, чтобы ты впредь любил меня и был со мной вежливым. Это тебе за тот харчок, сука. Открой рот!
Пашкин оскал окаменел. Прапорщик Панатюк посмотрел на него, ухмыльнулся, расстегнул ремень и углом пряжки треснул парня по выбитому зубу. Пашка судорожно хватил воздуха, издав низкий стон, и Панатюк заспешил расстегнуть ширинку…
Откуда-то взялись силы, и Пашка разметал державших его, винтом взвившись с колен. Он кинулся в двери, а за ним затопотала погоня. В темноте Пашка заплутал, и тропа беглеца привела его к дальнему углу за хозблоком, где высился бетонный забор. Из-под ног он вырвал старую рессору от армейского «УАЗа» и прижался спиной к забору, выставив перед собой железную дубину. Сколько-то безумных минут он сопротивлялся, готовый уже ко встрече с любимой бабкой… но тут к нему применили встречный прием — лом, который старослужащие и прятали. Рессора, жалобно крякнув, полетела прочь, а Пашку снова стиснули десятки рук. Окровавленного, его снова поставили на колени, и чьи-то жирные пальцы сдавили ему ноздри. И когда от угрозы удушья конвульсивно открылся рот, прапорщик Панатюк привел свое намерение в исполнение… А за ним, как смутно помнилось Пашке, и другие мучители…
Он захотел умереть — и умер.
Жизнь Пашке вернули в санчасти. Он не хотел брать эту опоганенную жизнь, не хотел дышать воздухом, пропитанным клейким и мерзким запахом, не хотел, чтобы билось его слишком крепкое сердце… Пашка жаждал перестать жить, но тренированный организм не мог умереть. Умереть оставалось рассудку. Ибо в мире, где может произойти такое, нет места разуму. Пашкина душа и Пашкины мозги сговорились, пока он валялся в беспамятстве. Не приходя в сознание, Пашка забился в корчах вместе с привинченной к полу железной кроватью. Язык вывалился через губу, клочья серой пены полетели изо рта… Военврач констатировал: эпилепсия.
Пашку нашли под забором через несколько минут после того, что обесценило всю его предшествующую жизнь. Крики и удары в их казарме не остались незамеченными. Кто-то смелый поднял тревогу. Всех офицеров подняли на ноги. Весть о ЧП дошла до командира полка. В сильно смягченном виде. Но и того было достаточно. О склонностях прапорщика Панатюка комполка знал давно, а почему на вид ему не ставил… А черт его знает, почему! Теперь вот зато придется расхлебывать!
Панатюка и двоих старослужащих закатали на губу, а Пашку оттащили в лазарет. Военная прокуратура приговорила Панатюка к лишению свободы, его подельников — к условным срокам. Но не в ее компетенции было приговорить Павла Грибова к нормальной жизни.
Пашке дали «белый билет». Пожизненно. Отпустить его из части одного было бы немыслимо. Почти месяц его сотрясали страшные припадки, каждый из них мог оказаться последним.
Вроде бы пошел на поправку, начал есть, разговаривать — только не улыбаться, — и однажды увидел в окно лазарета одного из старослужащих, что держали его…
Пашкина кровать вмиг опустела. Военврач принесся из соседней комнаты на шум и обалдел — только что на койке доходил полутруп, и вот она пуста, одеяло на полу, покачивается створка окна… В окно военврач увидел, как его подопечный смертным боем мутузит здоровяка из «дедов», а тот уже и пищать не может, только руками прикрывает голову…
Пашка бил ногами толстого сибирского парня, но ему мерещилось, что он убивает дракона… грифона… огромное фаллическое божество кровожадных язычников… Омерзительные образы множились перед его затуманенными глазами, и по каждому из них Пашка наносил удары, истово жалея светлым краешком сознания, что нет у него меча-кладенца. Потом сказочная фауна сменилась галереей из «Звездных войн», и Пашка взлетел над поверженным космическим монстром на звездолете, готовый выпустить на растерзанное тело противника глумливую, как моча, струю жидкого огня из бластера… Пашка парил на звездолете, отчетливо осознавая, что он, небожитель, изнасилованный демонами, никогда не сможет вернуться в заоблачные чертоги, что все его запоздалые подвиги напрасны… От безысходности он направил бластер на свое сердце, чтобы в сквозную дыру улетела вся боль вместе с жизнью…