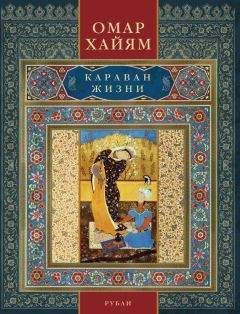Пол Теру - Моя другая жизнь
Как-то вечером это ощущение усилилось — а наутро Фейетт уже полулежала в шезлонге у воды под тенью плотного тента, там же, где я впервые ее увидел.
Дети, оробев, не решались подойти ближе, понимая, что их бассейн захвачен неведомым врагом. Я взял мальчиков за руки, позвал Алисон и представил всю троицу миссис Лазард.
Она неохотно пошевелилась. Подняла на лоб темные очки и улыбнулась.
— Мы ездили в Бангкок.
— Это было интересно? — спросила Алисон.
— Мы провели там все время, потому что у Гарри в Бангкоке дела.
Алисон упорно вела свою тему.
— Я слышала, Бангкок — фантастический город. Вот бы туда отправиться.
— У них есть телевидение. — Фейетт неожиданно насупилась.
Алисон, приняв ее слова за шутку, деланно рассмеялась из уважения к собеседнице. Лицо Фейетт, однако, выражало не бесстрастие записного шутника: оно было очень серьезным, а потом помрачнело.
— У них всего два канала. А у нас в Сан-Франциско четырнадцать.
Мы безмолвно взирали на нее.
— Ты наверняка любишь смотреть телевизор. — Фейетт поглядела на Энтона. — Какая у тебя любимая программа?
— Не смотри телевизор, — отвечал Энтон своим тоненьким голоском со всей нравоучительной четкостью смышленого трехлетнего мальчугана.
Фейетт повернулась ко мне, точно возлагая на меня вину за происходящее, и фальшиво засмеялась.
— От телевизора глаза делаются квадратные, — сказал Энтон.
— Он у нас страшный ханжа, — улыбнулась Алисон. — Если бы Уилл умел говорить, он бы вам поклялся, что Энтон очень даже неравнодушен к телику.
В самом ли деле Фейетт поморщилась за своими огромными очками? Или мне почудилось? Вслух она сказала:
— Надеюсь, вы хорошо устроились?
— Домик для гостей — просто чудо, — признался я.
— Это не дом для гостей, это помещение, где раньше жили слуги. Дом для гостей вон в той стороне.
Мы решили не поддаваться. Мы были так счастливы и защищены взаимной любовью, что даже эта женщина не могла отравить нашу радость. Фейетт проводила на воздухе около часа, а потом исчезала. Как правило, она не покидала главного дома; изредка ее силуэт мелькал на веранде. К домику для гостей, как мы по-прежнему именовали свое убежище, она никогда не приближалась. Встречи с ней происходили лишь у бассейна, а бассейн был достаточно велик, чтобы вместить всех.
Нужды покидать пределы лазардовского имения у нас не было. Каждые два дня приезжал фургон бакалейщика; мы покупали всю необходимую снедь, и бакалейщик отправлялся дальше, на розыски мистера Лоя. Мы плавали в бассейне, играли в крокет на площадке и гуляли по усыпанной гравием дорожке, которая вела через огромный лес, занимавший почти три акра. Наша с Гарри договоренность выдержала проверку практикой, поскольку отношения с Лазардами не приобрели даже малейшего оттенка фамильярности. Лазарды устроили вечеринку. Нас не позвали. Смешно: в резиденции американского посла мы с Гарри общались на равных, а здесь на нас — по крайней мере, на меня — смотрели как на слуг высшей категории. Я принимал это с полным безразличием; главное, что моим домашним было хорошо.
Первый урок поэзии состоялся через неделю, а то и позже, после возвращения Гарри Лазарда из Бангкока. Я догадывался, что ученик меня стесняется, что ему достаточно моего присутствия рядом; то, что я пишу роман, вызывало у него трепет восхищения — он сам мне об этом говорил и постоянно спрашивал, как продвигается работа. Но демонстрировать постороннему человеку свой талант — или его отсутствие — он не спешил. Это было поразительно: всесильного богача пугала перспектива показать мне свои стихи.
Я взял инициативу в собственные руки. Как-то под вечер, увидев, что Ахмед высаживает Гарри из «даймлера», я торопливо пересек газон, поднялся на холм, нагнал Лазарда и поздоровался. Мы поболтали о том о сем. Лазард предложил мне выпить. Завязался разговор на общие темы, потом мы перешли к поэзии. Казалось, эти посиделки в тени дома были для нас единственным способом заняться серьезным делом.
Он спросил:
— У вас есть любимые поэты?
— Множество, — отвечал я. — Уоллес Стивенс[26], к примеру. — Я стал припоминать его биографию. — Стивенс тоже был бизнесмен, владелец страховой компании. Каждый день ходил в контору. Стихи ему печатала секретарша. Вы его когда-нибудь читали?
— Уоллеса Стивенсона? Да, конечно. Мощный поэт.
Я боялся смутить Гарри и не стал развивать тему. Да это практически и не имело значения. Но в ту минуту меня посетило слабое подозрение, что уроки поэзии могут оказаться труднее, чем я предполагал.
— Получили какие-нибудь известия от Роберта Лоуэлла? — осведомился Лазард.
— Нет, — сказал я. — Мы не переписываемся. Гарри, та встреча с Лоуэллом была первой и последней.
— Дело не в том, как часто видишься с человеком, а в том, насколько глубокое впечатление ты на него производишь, — изрек Лазард, и это было суждение делового человека, а не поэта.
— Лоуэлла потрясло, что я сумел поймать рыбу.
— Вот, вот. Об этом я и говорю, — обрадовался Лазард. — Неплохо было бы вытащить его к нам сюда.
Мы смотрели вдаль, мимо газона, мимо решеток для вьющихся растений, мимо статуй и беседок. Я пытался вообразить, как Роберт Лоуэлл, крупный бледный мужчина со своими растрепанными волосами, съехавшими на нос очками и безумными жестами, сидит у бассейна. Как он напивается у нас на глазах, поддразнивает Фейетт и безжалостно издевается над Лазардом.
— Я бы хотел быть ему полезным, — сказал Лазард.
Мы с ним явно вкладывали разный смысл в одно и то же понятие.
На следующий день я снова напал на Гарри из засады и, последовав примеру подопечного, поинтересовался, кого из поэтов он любит больше всех.
— У меня очень старомодные литературные вкусы, — услышал я в ответ. — Предпочитаю классиков. Шекспир. Китс. Байрон. «Где был ты, лорд Рэнделл, мой сын?» Вот такого рода вещи.
— Я вел семинары по их творчеству. Мы со студентами проходили все периоды. А как вы насчет военных поэтов?
— О какой войне речь? — воскликнул Лазард, изумив меня своей горячностью.
— Первая мировая война дала миру целую плеяду превосходных поэтов. Эдмунд Бланден, Зигфрид Сассун, Уилфрид Оуэн, Исаак Розенберг… Вы кого-нибудь из них читали?
— Да… Давным-давно.
Выражение «давным-давно» в подобном контексте всегда казалось мне уклончивым и лживым.
— Исаак Розенберг… Звучит интересно. Что он написал?
— «Рассвет в окопах» и многое другое.
— Он был еврей, наверное. — Гарри покачал головой. — Странно. Британский еврей.
— Дизраэли тоже еврей.
— Все это говорят.
— «Мендельсон был евреем, и Карл Маркс, и Меркаданте, и Спиноза. Спаситель был еврей, и отец его был еврей… Ваш Бог был еврей. Христос был еврей, как я».
Лазард вперил в меня озадаченно-негодующий взор.
— Что с вами?
— Это цитата. Цитата из «Улисса». Леопольд Блум говорит это в пивной каким-то ирландцам.
Он почему-то страшно обрадовался, размашисто плеснул себе в стакан джину с тоником, отпил большой глоток, проглотил его с наслаждением и произнес:
— Вот уж никогда не думал, что буду сидеть на этой веранде и беседовать об «Улиссе» Джойса. Это сильно уникально! Не так ли?
Я только улыбнулся. Я понимал: нельзя с серьезным видом ответить на нечто, столь противное нормам грамматики, чтобы это не прозвучало саркастически.
На следующий день мы не виделись. Но пару дней спустя, под вечер, когда у Гарри образовалось полтора-два свободных часа, мы снова сидели у него на веранде. Он все еще робел, все еще не мог решиться показать мне свои сочинения, и тогда я предложил ему свой метод ведения занятий: просто вместе читать и обсуждать стихи, чтобы настроиться.
— Хорошая мысль, — оживился он.
Он безусловно был мне благодарен за то, что я не прошу его показать стихи и явно не жду от него слишком многого. Он поспешил заплатить мне вперед месячное жалованье. Поскольку жилье нам тут ничего не стоило, мы сильно разбогатели по сравнению с университетскими временами, и впервые за все эти годы Сингапур показался нам неплохим местом.
Однако поскольку делать у Лазарда мне было почти нечего, я начал проникаться чувством, что получаю не по заслугам. Неприятное это чувство мало-помалу крепло. Всякий раз, когда мне на глаза попадался повар, сидящий на скамейке позади кухни и читающий «Стрейтс-таймс», я вспоминал, как Лазард подозвал этого человека к своему столику в ресторане «У Мишеля» на Робинсон-роуд и предложил работать у себя, пообещав удвоить ему жалованье. Мне, кроме денег, были предложены душевный покой, работа, связанная с литературой, роскошные условия существования и, главное, — возможность жить вместе с семьей в старом Сингапуре, в парке с великолепным особняком, за надежной каменной стеной. Благодаря этому я мог трудиться над романом, мог отдышаться после злобно-иронической атмосферы университетского клуба. Но я слишком остро ощущал свое сходство с поваром, чтобы существовать в мире с самим собой.