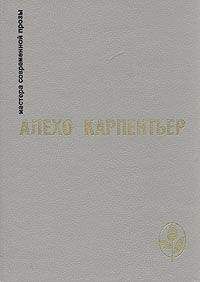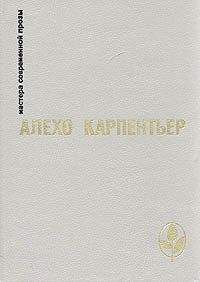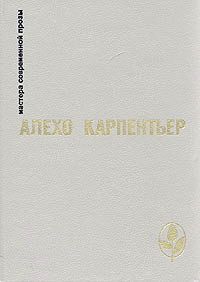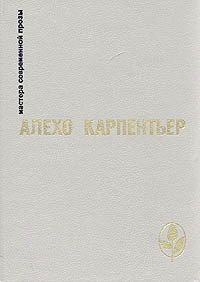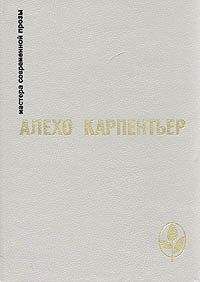Алехо Карпентьер - Превратности метода
В речи, насыщенной возвышенными идеями, Глава Нации скромно утверждал, что не заслуживает тех похвал, которые расточают ему сограждане, ибо не кто иной, как сам Господь Бог, великий в своем милосердии, но страшный во гневе, захотел покарать отступника. Не вызывает никаких сомнений, что Хофман нашел свою смерть в результате ордалии[193], и победитель — по воле Господа Бога, пути коего неисповедимы, — был избавлен от лишних страданий: ведь так больно пролить кровь старого товарища по оружию, ослепленного безумным «властолюбием. Здесь не прозвучал шекспировский клич — «Коня! Коня! Корону за коня!» ибо преступник, гонимый богинями мщения нашего Воинства и придавленный тяжестью угрызений собственной совести, погрузился вместе со своим тоже буйным конем в царство теней… Но главное было не в том, что враг порядка утонул в Больших Болотах. Суть заключалась в том, что укрепилось — как раз во время катаклизма, потрясавшего весь мир, — наше латинское самосознание, чувство «Латинидад», потому что мы латиняне, исконные латиняне, настоящие латиняне, носители великой традиции, которая восходит к Юстинианову своду законов — этой основе основ нашей юриспруденции — и воплощается в Вергилии, Данте, Дон-Кихоте, Микеланджело, Копернике и т. д. и т. п. (нескончаемый синтаксический период, увенчанный нескончаемыми аплодисментами).
Старая Aunt Jemima, сменившая по сему случаю затрапезный клетчатый платок на траурную шаль, с трудом взобралась на трибуну, чтобы вручить Главе Нации пожелание от семьи Хофмана с заверениями а своей преданности, шепнув ему заодно о том, что супруга Генерала, искренне сожалея о заблуждениях мужа, верноподданнейше просит назначить пенсию, которая ей, возможно, полагается по закону от 18 июня 1901 года, как вдове офицера, состоявшего более двадцати лет на действительной военной службе…
Весьма утомленный войной, которая завела его в самые лесистые и нездоровые области страны, Глава Нации отправился на отдых в свой дом в Марбелье. Там был большой, прекрасный пляж, хотя его серый песок часто сплошь заливало пузырчатым киселем медуз, погибавших в пятнах дегтя или нефти, расползавшихся из порта, который был неподалеку. Акулы и манты не преступали границ дозволенного, если можно так выразиться, благодаря четырехугольной ограде из колючей проволоки, увитой лохматыми водорослями. И хотя еще попадались мурены в гротах небольшого скалистого мыса, люди уже не помнили, чтобы в купальне кто-нибудь был растерзан барракудой. Когда дули северные ветры — «зимники», как их называли, — море делалось аспидно-синим, и огромные волны мерно и величественно накатывали на берег, бросая пену к подножию кокосовых пальм и гуанабано. Бывали там и погожие дни, особенно летом, когда вода делалась поразительно спокойна и прозрачна, утихомирив даже свою обычную легкую зыбь. И купальщик, бросавшийся в воду, испытывал странное чувство: будто плавает он в желатиновом озере. Потом с изумлением убеждался, что вовсе и не плавает, а скользит по студенистой массе прозрачных, почти незаметных моллюсков, величиной и формой схожих с монетой, которых ночью прибивало к этим берегам после долгих непостижимых миграций. Чтобы придать курорту больший блеск, Муниципалитет соорудил у конца цементного волнореза казино на сваях — точную копию подобного заведения в Ницце: металлический каркас, оранжевая керамика, железный купол, позелененный селитрой. Там можно было поиграть в рулетку, в баккара, в «шмэн-де-фер», где крупье в смокингах, ведя счет на луидоры и су, о каковых тут и не слыхали игроки, заменили реплики местных содержателей игорных домов «Играйте дальше» и «Хватит кидать» заученными фразами, все еще резавшими слух! «Faintes vos jeux», «Rien ne va plus»…[194]
Резиденция Главы Нации «Эрменехильда», расположенная на соседнем холме, возвышалась над пляжем. Дом был построен в стиле, среднем между балканским и Рю де ла Фэзандери, с кариатидами 1900-х годов в одеянии а-ля Сара Бернар, которые благодаря необычайной прочности своих шляп с плюмажами подпирали белыми головами — надежнее, чем любой атлант берлинских дворцов, — широкую террасу, окруженную балюстрадой со столбиками в виде морских коньков. Над сверкающей кровлей из майолики, глазурованной под мрамор, высилось нечто вроде фонаря — балкона — маяка. Комнаты, обширные, прохладные, с высоченными потолками, были меблированы креслами-качалками нуэва-кордобского изготовления, спальными гамаками на неизменных кольцах и красными лакированными креслами, полученными в дар от старой китайской императрицы, которую всегда приводили в восторг игрушки — заводные паровозики, калейдоскопы, поющие волчки, музыкальные шкатулки с бернскими медведями и броненосец величиной с водяную лилию для ее пруда в Зимнем Дворце — игрушки, преподносившиеся ей в былые годы Главой Нации, большим знатоком ее пристрастий. В столовой висела копия — впрочем, меньших размеров, чем оригинал, — картины «Плот Медузы»[195], а напротив — два прелестных морских пейзажа Эльстира, которые, сказать по правде, были совсем раздавлены тяжелым драматизмом композиции Жерико. Дом был окружен большим садом, где копошились садовники-японцы и где над кустами букса царило беломраморное тело Венеры, обезображенное зеленоватыми пятнами лишайника на животе. В глубине, под соснами, виднелась часовня, посвященная набожной Доньей Эрменехильдой нашей Святой Деве-Заступнице, — часовня, созерцание которой вызывало теперь у Президента мучительные угрызения совести, ибо напоминало о неисполненном обете, который он дал в Париже в весьма трудный момент своей жизни вползти на паперть базилики Святой Девы со свечой в каждой руке. (Но в то же время он утешал себя тем, что Святая Дева так же хорошо разбирается в политике, как и во всем остальном; Святая Дева, которая трубным гласом недавней победы Ясно дала понять, что не оставляет его своей Милостью, конечно же, видит, как нелепо в данное время выглядело бы сейчас публичное исполнение обета на глазах у всех. К тому же это вызывающее свидетельство пылкой приверженности католицизму обратило бы против него — а у него и так врагов предостаточно — ярость орды масонов, крестоносцев, спиритистов, теософов и толпы горлодеров-антиклерикалов, читателей и почитателей барселонских листков «Тракала» и «Эскела де ла Тораша»[196], не говоря об уйме всяких атеистов и вольнодумцев — легионе еретиков и нечестивцев, всех этих приверженцев Франции, где священнослужители не могли преподавать в школах, где семинаристы должны были отбывать воинскую повинность и где зародилась и крепла единственная, по их мнению, религия, возможная в этом великолепном двадцатом веке, веке Прогресса, — религия Науки!)
За домом через тенистую гранатовую рощу пролегла тайная тропка, по которой после захода солнца Доктор Перальта приводил очередную укутанную в шаль женщину к спальне Главы Нации. («Смотрите не умрите, как умер президент Феликс Фор», — неизменно повторял Секретарь, вручая свою находку господину. «Аттила и Феликс Фор были мужчинами, которые сумели приятно умереть»[197], — так же неизменно отвечал Глава Нации…)
На рассвете раздавался свист локомотива, тащившего Немецкий составчик, и Президент с чашечкой кофе в руке выходил на балкон посмотреть на него. Словно лакированный, сверкал на фоне рождавшегося утра маленький локомотив с блестящими шатунами и медными заклепками поднимавшийся по узкоколейке в гору, бодро пофыркивая и таща за собой красные крытые вагончики к Колонии Ольмедо, как две капли воды похожий на модель заводного паровозика, который был послан Главой Нации старой китайской императрице, дабы обогатить ее коллекцию автоматических и механических вещиц. Как только этот маленький Немецкий состав выходил из Пуэрто Арагуато, казалось, сразу все становилось игрушечным на его пути: крохотные станции, карликовые мосты над водопадами, железнодорожные переезды, шлагбаумы, семафоры, — хотя грохот слышался далеко вокруг, даже когда поезд подходил к маленькой платформе конечного пункта, доставляя туда, наверх, десяток пассажиров, несколько тюков и бочек, почту, газеты и порой бычка, который высовывал морду в окошко единственного скотного вагона. Словно только что явившийся из какого-нибудь магазина игрушек в Нюрнберге, цветистый, глянцевый, лощеный, отдыхал паровозик с вагончиками, закончив свой трудный путь, а своеобразном и экзотическом мирке, который отличался от оставшегося внизу мира и своими домами, будто прямо из Шварцвальда, стоявшими среди пальм и кофейных деревьев, и своей, пивной с Королем-Оленем на вывеске, и своими женщинами в тирольских платьях, и — своими мужчинами в кожаных штанах с подтяжками, в шляпах с перышком за лентой. Хотя все они были достойными гражданами Республики вот уже более века, испанский язык у них так и не привился. С тех пор как их привез в эту страну Граф де Ольмедо, богач с гербом креольского изготовления и землевладелец, озабоченный проблемой «обеления расы», иммигранты прилагали большие старания, чтобы не общаться с местными женщинами, усматривая в каждой из них самбу, чолу или квартеронку: у одной чересчур круто вьются волосы, у другой слишком темные глаза, у третьей чуть приплюснут нос, хотя кожа довольно светла. И вот таким образом укоренился обычай, переходивший от отца к сыну, — письменно вытребовать женщин из Баварии или Померании и жить — поколение за поколением, — распевая лютеранские хоралы, играя на аккордеоне, выращивая ревень, приготовляя похлебки из пива и танцуя старинный лендлер. Потому и плескались в наших горных реках упитанные селянки с рыжеволосыми лобками, носившие, возможно, вполне креольские имена, вроде Воглинды, Вельгунды или Флосхильды. Мало было дела Главе Нации до жизни этих тихих людей, уважавших законы, никогда не лезших в политику и во время выборов всегда голосовавших за правительственных кандидатов, чтобы только никто не нарушал их традиций. Но теперь ежедневное чтение французской прессы заставляло его глядеть на этих поселян с известным раздражением. Если, допустим, их жилища были по традиции украшены хромолитографиями с изображением заснеженных пейзажей, берегов Эльбы, состязаний в Вартбурге или мифической Валькирии в шлеме с крылышками, уносящей в небо на летучем коне тело юного атлета, павшего в сражении, то наряду с этим там и сям встречались и портреты Вильгельма II. А Вильгельм II, судя по материалам газет, был воплощением Антихриста. Его полчища, его орды, его механизированные банды, ворвавшись в смирную Бельгию, во Фландрию с ее веласкесовскими пиками[198] — прародительницами наших кавалерийских копий, — сметали все на своем пути. Они шли напролом, как конкистадоры, попирая руины соборов, дробя августейшие камни, проходя кощунственным маршем после поджога Лувенской библиотеки[199] по настилу из инкунабул, вышвырнутых на улицу. «Ein… Zwei… Ein… Zwei…» Они шагали, как варвары, топча уникальные свитки, бесценные манускрипты, пергаменты с великолепными заставками и витиеватыми прописными буквами, сражаясь уже не с людьми, а с прославленными действующими лицами Нового и Ветхого заветов, обретающимися испокон веков как на страницах распахнутых книг, так и в тимпанах, портиках и на папертях церквей.