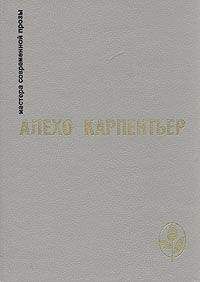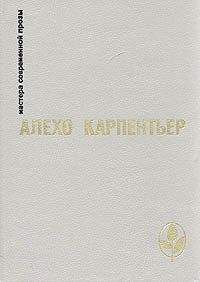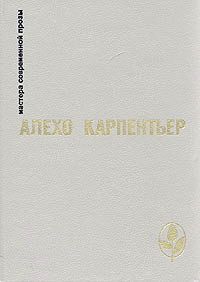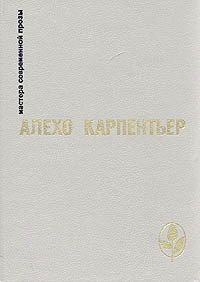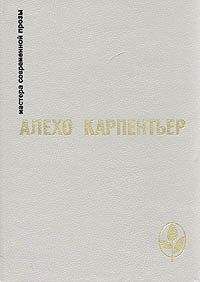Алехо Карпентьер - Превратности метода
«Перальта, ко мне…» И в течение двух часов, легко находя бьющие не в бровь, а в глаз эпитеты и сверкающие новыми красками образы — хотя на сей раз он не слишком расцвечивал свой стиль, — Президент диктовал статьи для газет своей страны, определяя главное направление идеологической кампании, которая должна была быть развернута до его приезда. «Бери все это и беги в «Вестерн Юнион»…» Затем с трудом поднял голову, видимо устав от диктовки, и оглядел с тихой грустью салон, милую сердцу мебель, окружающие его картины, скульптуру. Через несколько часов придется отказаться от этого покоя материнского лона, от приятного отдыха среди шелков, атласа и бархата, чтобы взгромоздиться на коня и зашлепать по болотам жарких южных областей — лианы, манговые заросли в стоячей воде, коварный мрак, невидимые нити, секущие лицо, — далеко отсюда, где он был по-настоящему счастлив. Президент думал о том, что делается там, и уже заранее начинал томиться тоской при мысли о возвращении, которое словно означало возврат к исходной точке для человека, ушедшего с течением лет далеко вперед. Скоро начнется ноябрь — наш ноябрь — День поминовения усопших, и кладбища превратятся в места увеселений и ночных гуляний, пышного разукрашивания могил, визга шарманок, бренчания гитар над старыми захоронениями, звяканья марак в сопровождении кларнетов и чаранго у изголовий давно усопших. А рядом — увядшие венки и женщины в глубоком трауре у свежих земляных холмов. Фигурки покойников из жженого сахара, покойников из розового мармелада; черепа — леденцовые, марципановые и сдобные из теста на кунжутном масле — среди лопат и лямок могильщиков, среди гробов, урн, великолепной бронзы и портретов бабушек и дедушек, офицеров и разряженных детей под овальными стеклами, тусклыми от росы и дождя. Приходят сюда и те, кто продает забавные скелетики — танцоров в митрах, в коронах, в цилиндрах, в кепи, — дергающихся в Танце Смерти на всем пути вдоль памятников и крестов — под крики торговцев: «Покойничка для вашего ребеночка»; торговцев, которых приглашают в такие дни на празднество и угощают водкой и яичными лепешками. А послушать только реплики, шутки или колкости, несущиеся от креста к — кресту, от ангела к ангелу, от эпитафии к эпитафии: «Эй, кум! Ну и хорош был твой упокойничек!» — «Не говори, кума, и твой-то не лучше — бродяга да потаскун!» — «Так-то оно так, куманек, по и твоему, скажу я тебе, далеко до святого!» — «Потому, кум, он и пристрелил свою бабушку!» — «Поди, куманек, разберись, кто там у вас кого пристрелил!»…
Вспомнив эти картины, Глава Нации почувствовал себя так, словно попал в заколдованный круг, начертанный шпагой Демона. История, которая была и его историей, ибо он играл в ней определенную роль, повторялась, ловила себя за хвост, пожирала самое себя, застывала на месте — какая разница, что на листках календаря красовался 185(?), 190(?) или 190(6?) год?.. Мимо все так же дефилировали те же сюртуки и мундиры, высокие цилиндры на английский манер и каски с перьями на манер боливийский — как это делается в театрах с маленькой труппой, когда устраивается триумфальное шествие из тридцати человек, которые, пройдя вдоль рампы на фоне одной и той же декорации, бегом огибают ее, чтобы вовремя выскочить снова на сцену и закричать в пятый раз: «Победа! Победа.! Да здравствует Порядок! Да здравствует Свобода!»… Классический пример с ножом, у которого меняют то потертую рукоятку, то сточившееся лезвие, — и получается, что по прошествии многих лет нож остается тем же самым, презрев бег времени, хотя и рукоятку и лезвие ему меняли несчетное количество раз. Время словно замерло в военных мятежах, в чрезвычайных положениях, отменах конституций, восстановлениях нормальных прав и в словах, словах, словах, в этих перипетиях — быть или не быть, вознестись или не вознестись, удержаться или не удержаться, упасть или не упасть, — и все это каждый раз выглядит, как круговой ход часовых стрелок, которые сегодня возвращаются к своему вчерашнему положению, а вчера отмечали сегодняшнее время.
Он глядел на шелка, атлас, бархат, на поверженного гладиатора, на спящую нимфу, на волка Губбио, на святую Радегунду. Ему хотелось остаться в Париже, вырваться из заколдованного круга, но, словно заточенный в этот круг, он не мог одолеть себя. И подсознательные устремления, и привычное восприятие и осмысление жизни — все это, вместе взятое, направляло его волю. Он знал, что многие там, на родине, его ненавидят; знал, что многие, очень многие, даже слишком много людей мечтают о том, чтобы кто-нибудь и когда-нибудь набрался смелости прикончить его (и если бы для того, чтобы призвать его смерть, достаточно было бы нажать волшебную кнопку из сказки о Мандарине, тысячи мужчин и женщин нажали бы эту кнопку). Именно поэтому он вернется. Вернется и покажет, что, хотя он и стоит на пороге старости, хотя и не выглядит, как прежде, бравым молодцом, стойкости, энергии и крепости духа ему не занимать — и он еще мужчина в соку, в силе, даже в расцвете сил. И будет давить своих врагов, покуда жив. Он не хотел разделять печальную участь тирана Росаса[189], который умер где-то в Суэйтлинге, забытый всеми, даже своей дочерью Мануэлитой. Он не желал походить на Порфирио Диаса, того, из Мексики, который живым трупом — в сюртуке, перчатках и шикарном цилиндре — разъезжал по Булонскому лесу в глубоком фаэтоне-катафалке с черными колесами, катившимися вслед за лошадью так уныло и медленно, словно это уже был последний, погребальный выезд…
Тут Главе Нации вспомнилась та Страстная Неделя, когда все жители его городка разыграли грандиозную многолюдную мистерию «Страсти Христовы» в полном соответствии с текстом манускрипта, датированного XVII веком и хранившегося в архивах Епархиального Ведомства. В течение многих месяцев женщины и дети копили серебряные бумажки от конфет и карамелек, чтобы оклеить ими шлемы и щиты центурионов; собирали ослиный и конский волос, чтобы украсить гребни шлемов. Портьеру из выцветшего бархата превратили в одежды Спасителя, пояс Христу сделали из хенекеновой веревки, вымоченной в настое из ароматических трав; для тернового венца взяли ветку кустарника «змеиное жало», росшего на соседней горе. Судилище происходило в патио Ратуши, где на Главу Нации — в ту пору еще Губернатора — возложили роль Пилата. Он отдал Сына Божия фарисеям и умыл руки в японской чаше, одолженной для сего случая в гончарной мастерской братьев Суарес. И началось восхождение на Голгофу в сопровождении воплей и криков народных… Одна маленькая глупая нищенка подумала, что перед ней развертываются подлинно исторические картины, из тех, что она видела в десятках алтарей деревенских церквушек, и она приблизилась к сапожнику Мигелю, исполнявшему роль Сына Божия, с намерением переложить на свои плечи тяжелое бревно с перекладиной, которое тот еще тащил, обливаясь потом, спотыкаясь, пошатываясь, падая, снова поднимаясь, издавая душераздирающие стоны великолепного театрального мученика и упорно продвигаясь к холму, где должен был участвовать в сцене распятия. Оттолкнув дерзкую девчонку, которая хотела помешать его достойному восхищения деянию, Христос простер к ней свою левую руку и сказал: «Если ты у меня отнимешь это, кем я буду и что мне останется?» И продолжал тащиться вверх по своему Тернистому пути, а толпа хором пела старинную песню, неизвестно откуда пришедшую и звучавшую торжественно и просто, как хорал:
Если казнь моя завтра, судьбу не кляня,
Молю сразу, без пыток прикончить меня…
Когда Перальта вернулся из «Вестерн Юниона», видя, что хотя я на ногах, но все еще о чем-то размышляю, спросил меня: «Почему вы не пошлете их ко всем чертям и не останетесь здесь наслаждаться тем, что имеете? Денег у вас хватит. А сколько бутылок нас жаждет! Сколько женщин нас ищет!» — «Если ты у меня отнимаешь мой крест, кем я буду и что мне останется?» — сказал я тогда, думая о людях, которые из-за наведения порядка в Нуэве Кордобе вышвырнули меня из своих домов, дав мне ко всему прочему понять, что моя персона слишком незначительна и не имеет веских оснований для внесения в тот Апокалипсис, который здесь, в Париже, чтили. Чтобы оставить свой след в истории, я провозгласил Крестовый поход во имя «Латинидад». И если Богоматерь соблаговолила бы ниспослать мне победу в течение ближайших недель, я дал бы обет, да, обет склонить перед ней голову после возвращения с триумфом и совершить паломничество к Святилищу Девы-Заступницы, смешавшись с народными массами (конечно, в тесном окружении «народных масс», одетых как народные массы) в знак благодарности и душевной радости за оказанные милость и снисхождение ко многим свершенным мною грехам. Со всеми теми, кто еле волочит изъязвленные ноги, льет слезы по ночам из затянутых бельмами глаз, обращает к небу ввалившиеся носы и адским усилием воли соединяет в мольбе свои культи; вместе с иссохшими, бесплодными женщинами; вместе с теми, кто вышел из детского возраста, но никогда не перестанет по-детски скулить и едва ковылять на хилых ножках, никогда не разогнет сухую руку; вместе с теми, у кого слово навеки застряло в окаменевших глотках; вместе с паралитиками и прокаженными я на коленях пересек бы широкую, мощенную плитками площадь и, отбросив прочь красный ковер, постеленный для меня прихожанами, полз бы по голому полу, чтобы пасть ниц перед Богоматерью и выразить ей мою превеликую благодарность в литургической прозе — не знаю, заимствованной ли у Ренана или из проповедей братьев-маристов: Волшебная Роза, Башня из Слоновой Кости, Златая Обитель, Утренняя Звезда, Ave Maris Stella.[190] Смотрю на часы. Теперь надо немного отдохнуть. Завтра рано вставать. Шутки ради, уже в ночном белье, я нахлобучиваю на голову английскую шапку с наушниками и набрасываю на плечи клетчатое пальто с пелериной, купленное в дорогу. «Вылитый Шерлок Холмс», — говорю я, обозревая себя в Императорском зеркале, стоящем на двух позолоченных сфинксах. «Не хватает лупы», — говорит Перальта и опускает мне в карман фляжку, что в футляре из свиной кожи со щетиной.