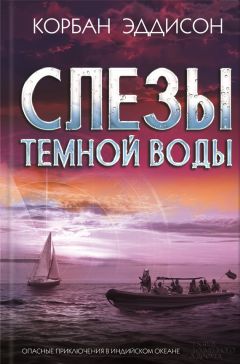Жильбер Сесброн - Елисейские поля
А вот сейчас здесь, в чайном салоне… к тому же, кажется, эта дама слегка прихрамывает. Он потер руки от удовольствия.
Потом он снял свою черную шляпу, взъерошил волосы (когда же они совсем поседеют!), чтобы привести их в беспорядок и придать себе жалкий вид. Он расслабил мускулы лица, и оно обмякло, будто парус без ветра. И если бы не чековая книжка в левом внутреннем кармане, у самого сердца, можно было бы подумать, что это другой человек. Он дождался, пока все столики будут заняты. Благословенный момент, когда она ему предложит — он был в этом уверен — место за своим столиком! Прежде чем войти, он нанес последний, но решающий штрих — оторвал пуговицу от пиджака.
Возвращение
переводчик Е. Лившиц
Воротничок рубашки не поддавался, его не удалось застегнуть ни с пятой, ни с шестой попытки. Те несколько недель, пока Д. выздоравливал, словно вернули его в счастливую пору летних каникул. В последние дни перед отъездом он даже радовался про себя, совсем как прилежный ученик, что скоро опять будет работать…
И все же, когда он сошел с поезда, у него на миг потемнело в глазах и перехватило дыхание — от гула вокзала, от толчеи, где каждый норовит отпихнуть другого, от рекламных щитов, со всех сторон теснящих стадо молчаливо насупленных пассажиров, и даже от асфальта под ногами, сначала на перроне, потом на тротуаре. Потные озабоченные лица людей вокруг показались ему отвратительными, но, увидев себя в зеркальной витрине, он понял, что его собственное лицо ничем не отличается от других.
Спустившись в метро, он окончательно почувствовал себя чужим. Афиши все были новые, незнакомые; из лабиринта переходов доносились несвязные обрывки мелодий; в вагоне ехало много цветных. У всех пассажиров был неприятно блуждающий взгляд.
Спал он плохо — отвык от запаха своей комнаты, от своего постельного белья. Он проснулся задолго до звонка будильника, лежал с открытыми глазами, ни о чем не думая, в полутьме, и она как будто успокаивала его. Не без опаски распахнул он ставни в эту чуждую ему столицу и впервые со времен романтической юности попытался представить себе миллионы людей, укрывшихся за стенами всех этих домов. И хотя они были внизу, под ним, он все равно чувствовал себя раздавленным их числом, их непохожестью друг на друга и их покорностью, главное, покорностью. «Сколько их вот так же сейчас распахивает ставни?» Но от этой мысли он не ощутил прилива братской нежности, напротив, его охватил ужас.
Д. поспешил в свою очередь включиться в повседневный ритуал: надо умыться, побриться… Он с раздражением входил в привычную колею, мысленно отмечал каждое свое движение. А когда поймал в зеркале еще и свой наблюдающий взгляд, ему стало страшно.
Вот тут-то Д. И пришлось повозиться с воротничком. Он прищемил себе кожу на шее. Разглядывая ее в зеркало, он почему-то вспомнил о морщинистой шее черепахи. «Ну-ну, — успокаивал он себя. — Я ведь и не потолстел вовсе». Не потолстел, но не только шея весь он как-то раздался от вольной жизни. Его верные спутники, разношенные ботинки, тоже стали неудобны; и костюм был узковат в плечах и в талии. Он отогнал (вернее, с трудом загнал внутрь) мысль о том, что тесный костюм — это своего рода символ, что теперь все — и квартира, и работа, и этот город, вообще вся его жизнь — вот так же станет ему тесно. Он еще раз оглядел себя в зеркале: «Точь-в-точь принарядившийся крестьянин» — и принужденно засмеялся.
В конце концов Д. решил не бороться больше с воротничком и потому чуть было не забыл про галстук. Он открыл шкаф: пестрые полоски материи, безжизненно повисшие одна подле другой, словно мертвые змеи или жены Синей Бороды, показались ему смешными и ненужными. «И подумать только, что каждое утро большинство мужчин тщательно выбирают, какой галстук надеть…» Д. снял первый попавшийся и с неудовольствием отметил, как легко и привычно вывязался узел.
Так же заученно он разложил по карманам платок, кошелек, бумажник, ключи… Почему, собственно, в этот карман, а не в тот? Жест за жестом он входил в прежний образ, образ, который, как он сейчас понял, давно уже, а вернее, всегда тяготил его и был ему самому ненавистен. Но тогда, собственно, кто же он сам?
Выходя, он машинально сделал все как прежде: запер квартиру, спустился по лестнице, толкнул, а не потянул на себя дверь метро… Когда это, прежде? Прежде, до болезни, до отъезда туда, где он жил без тревог, не заботясь о времени, окруженный вниманием и тишиной. Прежде, чем он узнал живительный воздух, могучие деревья, мирные пастбища… До этих последних недель — сколько же их прошло? — когда можно было ошибиться, называя день, потому что это не имело никакого значения…
Д. явился в министерство вовремя, хотя и не спешил и ни разу не взглянул на часы. В просторном вестибюле с колоннами, напротив мемориальной доски с именами павших в двух мировых войнах, он как бы новыми глазами увидел огромный указатель отделов, от которого веяло таким же холодом: лестницы А, Б, В под арками I, II, III… Совсем как на кладбище. Если бы на министерство упала бомба или если бы оно сгорело в сорок четвертом… Так что ж, его отстроили бы заново, в другом месте, но совершенно таким же! Когда муравейник разрушают до основания, его обитатели, не теряя ни минуты…
Д. поднялся к себе в отдел (арка II, лестница В, 4-й этаж, коридор Г) и застал там все, как было, — никаких изменений. Он внутренне усмехнулся, и этот тайный смешок как бы отделил его от всего и от всех. А между тем, произойди в его отсутствие хоть малейшее изменение, он бы ударился в панику.
— Вы хорошо выглядите! — говорили ему все по очереди.
Ему почудился упрек там, где его не было и в помине: коллеги выражали лишь доброжелательное безразличие. «Им приятно говорить мне это, — подумалось ему. — Так они самоутверждаются…»
В соседней комнате его ожидала новость:
— Помните В.? Бедный, у него инфаркт!
— Инфаркт теперь в моде, — ответил он, не выражая сожаления, чем разочаровал собеседника.
Плевать он хотел на В., да и на них на всех, по правде говоря! И потом, почему «бедный»? Еще неизвестно, кому хуже, В. или им всем.
Д. спросил у сотрудников, кто заменял его во время болезни. Да никто! — заверили его, чтобы успокоить, но у Д. болезненно сжалось сердце: «Значит, моя работа никому не нужна…» Гигантская игра в бирюльки, вот что такое наше министерство, да и вся администрация! Если действовать осмотрительно, то можно убрать по одному всех чиновников, и ничего не изменится.
Чтобы увидеть Мариетту, он прошел три отдела. Она сидела за столом, ее бедер видно не было, а свитер из грубой шерсти («моя дерюга» говорила она) скрывал грудь, которую воображение не раз рисовало Д. в течение всех этих недель…
— А вот и вы! — сказала она. (И даже голос ее утратил ту особую притягательную силу, которой обладает для мужчины голос невидимой собеседницы, — это чудо повторяется при каждом разговоре по телефону.) — Вас не было целый месяц!
Между тем он отсутствовал девять недель. «Решительно, я никому здесь не нужен», — с горечью подумал Д.
— Пообедаем вместе в столовой, — предложила она. — Сегодня понедельник… значит, в меню рагу под белым соусом. Но, знаете, они стали хуже жарить картошку. Мы даже подали жалобу.
Д. прислонился к стеллажу: при мысли о том, что так будет всегда — рагу под белым соусом по понедельникам и говядина по-бургундски по вторникам, — у него закружилась голова.
— Вы еще не совсем поправились? — с сочувствием спросила Мариетта. — Вы едва стоите на ногах…
— Нет-нет, все в порядке. — Главное — не выделяться, не привлекать внимание. — Вы говорили, картошка… Как это неприятно!
Он вдруг вспомнил о своей кухне, он оборудовал ее в прошлом году. Образцовая кухня. Прежде чем остановиться на этой модели, он пересмотрел кучу проспектов, обходил магазины, теребил продавцов, потом мастеров, не говоря уже о служащих банка, оформлявших кредит, — не меньше двух десятков людей, которые для того и существуют, чтобы исполнять изо дня в день одну и ту же работу, как и он сам, но им-то, идиотам, это нравится! По вечерам они рассказывают женам, что произошло днем в конторе, читают специальные газеты, вступают во всякие общества, платят членские взносы, защищая права своей профессии, а потом уходят на пенсию, потратив сорок лет жизни на продажу образцовых кухонь разным там Д., которые ими и не пользуются, в лучшем случае варят по утрам себе кофе…
— О чем вы задумались, мсье Д.? — спросила Мариетта. Они все еще церемонно называли друг друга «мсье» и «мадемуазель» и — Д. внезапно понял это — ближе никогда не станут.
Время в этот первый рабочий день тянулось бесконечно, как бывало когда-то в школе после летних каникул. С приближением вечера Д. охватила паника. Гнусное место это министерство, но мысль о том, что надо куда-то снова идти, еще непереносимее. И потом, эти ранние сумерки — напоминание об осени, а за осенью последует зима. О весне Д. как-то не вспомнил. «А может, жениться? На ком попало, ну хоть на той же Мариетте? Но что это, собственно, изменит?» Коллеги посматривали на часы, начинали собираться; две девушки пошли в туалет: они вернутся оттуда слишком ярко накрашенными, распространяя вокруг запах дешевых духов, который прежде волновал Д., но теперь его уже заранее мутило. «Значит, ты окончательно зачерствел, только с самим собой и носишься, идиот!» Впрочем, и сам-то себе он противен… Сидя за столом и склонившись над бумагами, он ждал, пока все разойдутся. Ну что он сделал сегодня полезного? Каждый, проходя мимо, говорил ему: «До завтра!» «Неужели они не понимают, как ужасно то, что они говорят?» — недоумевал Д.