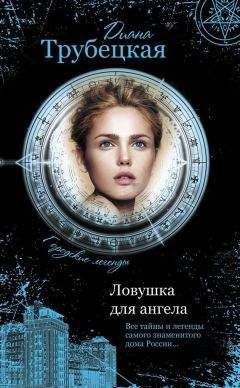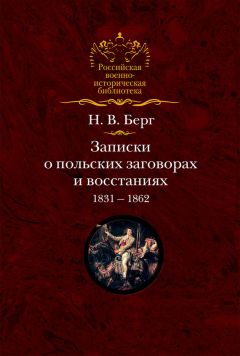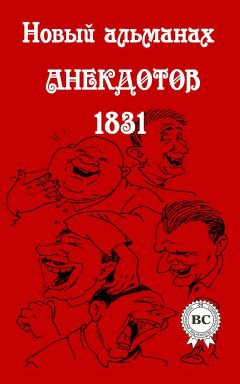Олег Павлов - Асистолия
В этой квартирке и должно было происходить что-то такое: запой, с животной дракой, воплями, безумством… Готовенькое, теперь уж точно гаденькое местечко для сведения счетов с жизнью. Комната тоскливых ужасов, будто разбуженная, стряхнула прах, как машина, пришла в движение, отслоила паутиной что-то зыбкое и жуткое, погрузилась в ожидание и тогда почему-то ожила… Саша в ней одна. Она не переносила водку, даже запаха, но ничего, кроме водки, в квартире не оказалось. Он купил водку по талонам, чтобы не пропали, если можно выменять сахар, кофе, сигареты, много чего. Она даже не знала, что напьется в этот день до бесчувствия… Нашла случайно то, что можно было выпить… Потом, понимая, что опьянела, думала, наверное, ну и пусть он увидит ее такой… Потом, что все ему скажет, злое веселие… Да, скажет, а потом хлопнет дверью и навсегда уйдет. Вещи, их надо собрать: упакован чемодан, с которым пришла. Это занимало время, которого уже не ощущала как время, просто куда-то далеко плыла. Она не думала, куда же потом пойдет, где окажется одна, пьяная, ночью: воображала, что сядет в автобус и куда-то поедет, как будто это мог быть тот ее трехколесный велосипедик, на котором так легко собиралась объехать вокруг земли, всего лишь набив кармашки пряниками… Бесстрашная, она ничего не боится. Но опять она, быть может, плакала, как будто хоронила кого-то, листая свой плюшевый альбом… И опять, вспомнив о своем Хорошке, звала, искала… Что думала о нем, его собравшись бросить… Эти мысли ее выстроились, как солдаты: все кончено, все кончено, все кончено… Но теперь она ждала, чтобы уйти, не исчезнув вдруг бесследно: пожалев на этот раз, в последний раз, не сделав еще мучительней для него свой уход, чем могла… Да, она великодушна и щедра, это маленькое снисхождение к нему ничего ей не стоит, только ожидание, оно мерзкое, в этой мерзкой квартире. На фоне этой мерзости она, пожалуй, должна сделать напоследок ему, бедненькому, еще что-нибудь приятное… Пусть помнит всю свою жизнь, когда войдет и увидит ее, какой она встретила его беззаботной, красивой… И еще успела беззаботно принять ванну, разбавив это удовольствие новой порцией водки, глотая которую уже чувствовала приступы тошноты, точно бы страха и омерзения, но презирая свой же страх, подавляя силой своей воли даже это омерзение, глотала… Пусть бы это был яд, но теперь она даже в глаза своей смерти смотрела бы с презрением, повинуясь одной лишь гордости, которой что-то бросало вызов… Тогда алкоголь совсем притупил в ней всякое чувство боли, сделав бесчувственным даже посвежевшее, водой и теплом упоенное тело… Она забыла о нем, чем-то прикрыть — или уже тоже желала выставить напоказ, свое как чужое… Что осталось на уме… Красивую прическу… Броский макияж… Волосы ее успели высохнуть, сами покрыли голову, даже лицо, на которое как бы нежно стелились… Наверное, пока старалась что-то сделать со своим лицом, путаясь в них, от своих же попыток, глядя на то, что получалось, в подлое, чудилось, смеявшееся над ней, своей хозяйкой, зеркальце, она его разбила: его осколки усыпали пол, искрились, но похожие каждый — или теперь уже каждое — на маленькое, готовое во что-то впиться, поэтому опасное, как бы живое, злое жало. Вот что ее надломило, сломило: она хотела их собрать, смести, убрать, но не могла… Раня ее босые ступни, впиваясь в них, чего она, наверное, не чувствовала, они разбегались, будто бы падая на пол, разбиваясь, рассыпаясь вновь и вновь… Кровяные отметинки на полу, но как следики от птичьих лапок, всюду, от порезов, ранок этих — в комнате, на кухне, в санузле… Чего еще хотела, бродила, для чего… Этого он уже не может понять, даже представить. Он попал в квартиру, потому что она очнулась и впустила его… Вспомнила о нем, заставила себя… Вот она развалилась на диванчике, мычит, ей плохо… И он спокоен, он все еще спокоен, потому что понимает, что она лишь пьяна, она просто до бесчувствия напилась… Сколько он видел таких животных, сколько раз был сам таким вот животным, теперь главное никого не жалеть, ни себя, ни ее, нужно помочь ей, как будто это мучается корова или овца, помочь избавиться от того, что в нее вселилось и мучает. Размалеванное лицо, кровавый кривой рот, от попыток обвести его губной помадой… Черные круги от поплывшей туши вместо глаз… Это для него, что уж осталось… Унитаз. Ванная. Холодный душ. Понял, где достала, сколько же в себя ее влила, почуяв водку. Ему нельзя ее жалеть, он жесток, он поливает ее ледяной водой из душа, успевая поймать себя на мысли, что если не испытываешь к своей жертве жалость, сострадание, то, как эти санитары в медвытрезвителях, получишь удовольствие садиста… Бедная врачиха, она была к нему куда добрее, она ведь его-то спасала, спасла от этих пыток… Саша, Сашенька… О, нет, молчать, молчать! Через полчаса все повторяется… Унитаз. Душ. Диванчик. Он спокоен, он делает свое дело… Но теперь она пробудилась… Теперь на него смотрели ее глаза как бы сквозь мутную, мутную поволоку, из опухших щелок: и все, что могла чувствовать, принимало вид, форму, пусть истоптанное, стертое, это страдальческое мимическое выражение: злое, исступленное. И что выдавила, было: “Я тебя ненавижу”.
Закрыв глаза, тут же провалилась в забытье. Но через время вдруг что-то пробудило, подняло… Было давно за полночь. Бродила. Уходила. Дух ее куда-то рвался. Обнаружив, что запер дверь, спрятал ключи, будто во что-то уперлась. В полусознании, как если бы и подчинялась не самой себе, но нахлобучив одежду, глядя сквозь него, в никуда, угрожающе завывала одно и то же: дай уйти, отпусти. Это вселило в него злость или такую же ненависть к ней, да, теперь он уже ненавидел это животное, издеваясь над ней, он бросал в нее что-то грязное — а она отвечала ему тем же. Наконец она вспомнила… Заговорила… Она думала, что забеременела, она решила, что этого зародыша не будет, сама решила, все сделала… Что он понимал… Ничтожество… Если бы этот его зародыш в ней был, то его бы уже не было… Так она произносила с наслаждением, как бы даже на языке медицины: “зародыш”… Все сказав, ощущая вокруг себя даже не молчание или тишину, а сдавленную будто до полного отсутствия в ней жизни атмосферу, слюняво улыбаясь, чему-то радуясь дурочкой, стихшая, в блаженстве успокоилась и, еще подождав, насладившись, прилегла на диванчик, потому что устала.
А через несколько минут уже противно храпела.
Страх…
Унижение…
Стыд…
Бешенство…
Ничего этого не почувствовал, лишь усталость — и освобождение. Как мало он знал себя, оказалось. Лег на полу в комнате. Что он сделал, ведь что-то же он должен был сделать? Он погрузил эту квартиру во тьму, просто выключил свет.
Утро. Кто-то толкает его. Это она. Наверное, ждала бы, но вид спящего собакой на полу стал невыносим. Она собралась, хоть ставшая такой короткой ночь своей порчей объела ее лицо. Оно какое-то голодное, темное, будто уже из прошлого…
Дрогнул голос… Голос, он и вернулся к ней, не обманывал, самой чистой явью. Той, что говорила в ней, с ним… В этой наполненности душевной отсутствует какой бы то ни было смысл. Все хрупко, нежно. Хочет казаться твердой, чужеродной, но сейчас же расплакалась бы, выплакав лишь горе.
Он это чувствует, поэтому долго молчит. Но все мучительное долго будет выговаривать себя, пока очистится… Очистились? Простили себя? Но что должны понять… Забыть — но это как забыться. Ее страхи… Его страхи… Вот что их мучило и оттолкнуло. Но как будто и боялись друга друга, как страшно было просто смотреть друг другу в глаза, начиная тогда протягиваться еще лишь словами навстречу, искать выход… Мысль — ведь она хотела избавиться от его ребенка — но разве он cам хотел, готов был даже к одной мысли, что может родить? Он тупо не чувствовал ее страхов и что это значило для нее… Но если бы случилось, это случилось — склонял бы сам избавиться. Тогда бы, конечно, хоть бы что-то понял, почувствовал… И это ему бы пришлось говорить ей, сознаться в том, что же для него главное… Что главное для него сейчас — это они сами, их жизнь, то есть, конечно, он сам, его свободное, так сказать, состояние. И вот уже она — ничего не говорит, решаясь избавить его или пусть даже себя от ошибки, но совершает ошибку, ошибается… До последней минуты не знает, отчего все так рвется внутри — и разорвалось. Никто, кроме нее, не знал, что сделала, то есть никто бы так и не понял, умри она, для чего, зачем?! Всадить в себя десяток этих ампул, когда ничто не стало бы утратой, и ничто не принесло бы облегчения. Кто же мог отнять ее у него? Она, только она сама и могла отнять — вот он, ответ. Или это уже такой же вопрос, что потребует однажды к ответу?
Слова, слова, слова… С ними что-то входит, как само время, и они тут же сгорают, так мало у них этого времени, кажется, одно слово — как одно мгновенье. Сколько мгновений нужно было, чтобы повернуть это же время вспять… Торжественно зачем-то выливаются в раковину остатки водки. И это она дает ему обещание никогда не пить, верит свято всем своим словам, а от него ждет если не нежности, то хоть какой-то теплоты, ведь оживает лишь для любви… Она забудет о бредовой идее пытаться строить свой дом, семью под чужими крышами… Ему нужна мастерская для работы, эта квартира становится теперь его мастерской. Дом ее — это его дом, жить они будут на проспекте, с матерью, по-другому не может быть. Его выставка в марте. Он должен только работать и ни о чем больше не думать. Его денег хватит прожить до весны. И весной она получит свой диплом… Весной они станут мужем и женой… Весной, весной! И она, конечно, пропишется у него, с него хватит ее комплексов, он устал, и не то время… Все по карточкам, по талонам… Она не понимает, в какое время они живут?! А дети, если дети? Она что же, к своей маме улетит, в Магадан? Будет в Магадане рожать его детей? В Магадане устраивать в детский сад, в школу, воспитывать? Жить? Работать? Он все решил. Все знал. Спасает, не зная кого, ее или себя, но потом, будто терпящих бедствие, их подобрал маленький диванчик, что был для того только и нужен, чтобы кого-то спасать. Эти несколько досок могло бы носить, как щепки по волнам, если представить такое… Где-то росло дерево. Чьи-то руки его срубили. Чьи-то руки распилили на доски, облагородили, собрали под размер. Люди ложились на диванчик, они, каждый своим, только дорожили. Эти доски не стали шкафом или гробом, не пошли на угли, не превратились в какое-то еще творение рук человеческих. Если бы думать об этом диванчике как о живом, то вся его жизнь — это воспоминание о людях и людей о нем… Он превратит и это свое воспоминание в образ.