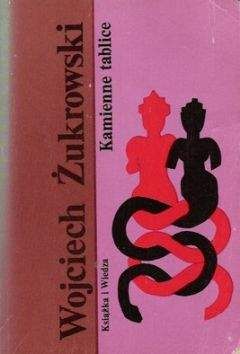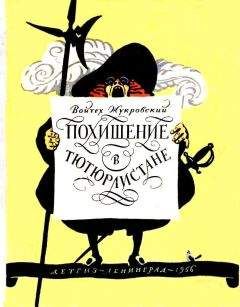Нина Садур - Иголка любви
И официанта — уж тут и речи нет. И что же я все это дивное лето потратила — то тому помигаю, то с этим станцую, только бы оба не чувствовали себя обделенными, не дай бог травмировать, чисто по-человечески откликаться на их влюбленность в меня. Надоели они мне оба смертельно.
Я Кирилла поставила перед собой, спиной к хохлу, у мальчика губы дрожали, я хотела ему сказать что-нибудь, но щека, как у меня, была поцарапана, кровь бежала, у него губы дрожали, он смотрел на меня, а я ничего не могла ему сказать.
— Он в вас не попадет, — сказал он из упрямства, не хотел признать, что по правде он маленький. Что я должна его закрыть, а не им закрываться, как будто бы он — настоящий.
В шестом часу я ждала на площадке у входа свое такси. Котенок залез ко мне. Серый предрассветный был свет. В спину немного дуло с моря. Очень пахли травы. Котенок играл со мной, цеплялся лапкой, смотрел голубыми глазами, глупый совсем, мне нравился, хоть и блохастый, усы как у Щорса, а сама я не смотрела, как напротив, уже открыто стоит же (это уже невозможно не замечать по рассеянности), упрямо прямо в меня глядя, стоит официант. И какое бы я ни делала движение, он повторял его (не жестом, а внутренним вздрагиванием), я вся в нем отзывалась, деваться было некуда, и на котенка в моих руках он неподвижно, недоуменно глядел. Он не понимал, как же так можно ни разу не взглянуть на него, хотя бы потому, что нас там всего двое в пустоте рассвета, конца лета, это даже противоестественно, ненормально просто. Ведь на площадке мы совершенно одни. На этой горе. Да человек ли я?
И наконец, опечалился, разглядев, что сквозь ресницы я за ним наблюдаю, смеясь, и все вижу. И тогда он прислонился к стеклянной стене бара, типа того: «А нам наплевать, мы подышать вышли!» — стекло было чистое, он прислонился как к воздуху, и грубая жаркая страсть ушла из его глупого красивого лица, и на лице его проступила простая печаль без названия. Но я этого не заметила. Я была как подростки с неподвижными глазами. Они видят вас, да, видят, но у них нет сердца. Нет, есть у них сердце. Есть, отстаньте от них!
И мы с ним одновременно удивились и обернулись к подъезжающей «Волге» (таких уже нет в Москве, она была как сон из радостного вчера), а в ней сидел пожилой, очень хитрый хохол, он мгновенно обо всем догадался и усмехнулся. Я повезла чемодан до хохла, и официант сделал движение навстречу, если б я хоть бы вскинула на него глаза, он уж по взгляду, без просьбы прямой, подошел бы взять чемодан, довезти до шофера. Не превозмочь было оцепенение мне. Я ведь все лето, заметив его, ненужного, проходила, опустив глаза по закону монашества, так я и тут ничего — ни взгляда, ни словечка. Пошла сразу до хохла, повезла свой чемодан.
Он мне отравил все лето, он крался за мной, он прятался, если я нечаянно могла наткнуться на него взглядом, он всю меня обволок собой, он влез в мою печаль, заставил о себе думать, замутнил мне и море, и тонкий, мой любимый свет гор, и даже самый любимый мой час — предрассвета, когда я выходила на балкон и холодный пряный ветер лился мне в лицо, а серое море взблескивало и медленно розовело.
Я была с ним, как он хотел, а со мною не было никого, даже моей печали.
Уехал обрадовался, он понял, что я не хочу, чтоб он показывал мне свое сочувствие, что я в Симферополе отдам ему все мои деньги, лишь бы он уехал скорее, последний свидетель моей убогой немощи, и он скажет мне: «Голубка». От всей души, потому что по-настоящему, умно, по-мужицки, на одну минуту меня пожалеет. Эту «голубку» я забуду, ведь пройдет целый год, пока она не вернется ко мне «паломой».
Хохол взял мой чемодан, положил в багажник, открыл мне заднюю дверцу. И официант, не скрываясь, спустился почти к самому краю, на последнюю ступеньку, откуда уже можно было протянуть руки с мольбой. Понимая, что теряет меня безвозвратно, он хотел, чтоб было еще больнее, хотел смотреть на меня ненаглядную, на мой профиль за окошком красивой, ушедшей из России машины. Она и так «машина вчера», да еще и уедет сейчас и меня увезет. Он хотел длить секунду перед своей окончательной гибельной отвергнутостью, вечным старением сердца, которое начнется, как только я уеду вниз по заверченной белой дороге. Может быть, и надо было мне так уехать. Тихо отчалить. Пусть горюет, а я бы не видела. Но непреодолимо желание посмотреть, что вы там наделали. Оглянуться, как нерусская, как нечеловек, как будто ни капли сострадания!
Я взяла и оглянулась. И я увидела опрокинутое лицо любящего.
За Москвой, за всеми городами России лежат опустевшие земли. Помирающие деревушки не в силах удержаться на них.
Когда будет ранняя весна. Когда только-только стает снег и будет пустой ясный день, напоенный светом, можно будет увидеть, как по черной земле пустынных полей идет монашек. Идет себе терпеливо, «скуфью надвинув на глаза». Его сутулость. Его слабые, теплые руки. Тощий мешок за спиной у него, ветерок треплет бабью юбку старенькой рясы, а черные лоснящиеся грачи взлетают почти из-под самых его босых ног.
В маленьких, безымянных городках России пацаны до сих пор играют в войну и побеждают фашистов.
«Ах, какой нерусский?» — ахнуло сердце.
Более-менее расшатаны все знакомые. Но даже самые дикие в сравнении с тобой — улыбчивые физкультурники уравновешенные. А ты свинья поверженная, полчервя, сама себя повредила еще лет в пять при первой догадке о смерти. Но почему-то время от времени, ни с того ни с сего краем глаза (тайком) — уплывающую назад ловить степь-степь, и только это и нужно, хотя степь была всего один раз в глубоком детстве, и то за окнами поезда.
В шесть утра встать, нет, даже в пять, все равно скомканный какой-то, торопливый сон и весь в слезах, в поту. И эти два удивительных часа предрассвета стоять в оцепенении посреди комнаты, не беспокоясь за нелепость поведения (никто не увидит, не надо объясняться торопливо, пугливо завираясь и путаясь), стоять соляным столбом под электрической лампочкой. Она так глупо, так зря светит, но выключить нету сил, шевельнуться невмочь. Стоять растопырясь, тихо дыша, стараясь не задевать собственного тела — пусть оно, бедное, стоит, бедное, в свете ранней лампочки.
Ну хоть кто-нибудь? Ну хоть кто-нибудь где-нибудь за меня? Да. Два этих удивительных часа за тебя. Они похожи на тебя саму, эти два часа. Тайные, тихие часы суток. В них нет никакого значения. Они никуда не ведут. Но они одни во всем мире похожи на тебя саму. Потому что в тебе самой тоже нет никакого значения и ты тоже никуда не ведешь. Вставать под предлогом бассейна, а на самом деле ради того, чтоб повидаться с этим ранним нежным временем. Бесцельно текущим, пустым и обеззвученным. Обидчиком дворников и рабочих первой смены. Но ты-то добровольная. Ты не любишь сна-утешителя. Ты хочешь все перебыть, что с тобою случилось, ты понимаешь: чем труднее дышать, тем скорее все кончится. Пусть не кончается! Не надо бессмертия, не надо бессмертия, отдайте смертный ужас весны моей!
Ты знаешь — эти два часа единственные, кто хоть немного тебя поддерживает, чтоб не качалась ты, не кренилась, за плечи тебя поддерживают легкие два часа, друга два, потому что прохладны они, бесцельны и ничего ни о чем не знают, как и ты сама.
На цыпочках, чтоб не соскользнуть в смерть.
Другого, поменьше, совсем не нужно. Наотрез.
Все перебыть, что с тобою случилось.
И вот уже второй пошел месяц, как отправлено твое лукавое, больное письмецо.
Зоркий, непрощающий взгляд любящих. Любой физический изъян им ненавистен. Прижмутся друг к другу, сцепившись холодными пальцами. Скажут некрасивому человеку: «Никто никогда тебя не поцелует!» — «О, я не смею просить! Мне бы хлебца кусочек!» И, поколебавшись, откажут любящие: «Нет. Умри». И отойдут, побледнев.
Дозволь с твоим мужем ночь перебыть.
Как мне повезло с друзьями. Люся толстая, научила ходить в бассейн. Какой-то от усталости забрел полежать (имени не помню). Заставила слушать смех любимого. Прослушал всю кассету. Олежек любит только книжки и свою печаль. Куда же ему идти? Ко мне. И этот попался. Дикий Степа, бармен с пистолетом, нежней друга нет. И после еще тянулись очароваться. Робко звонили: «Расскажите про немца. Говорят, вас убил немец. Про черное небо, про Берлин. Как он вышел. Говорят, ниоткуда. Говорят, на ладонях у него совершенно нет…» Особенно женщины. Некоторые говорили про смерть. Но ведь это глупо, потому что скоро уже весна.
Только самых красивых и самых беспечных пущу к себе. Рассказывать про тебя.
Вот сестры решились. Наломали стекол, наточили ножей, набрали иголок. Приставили лестницу к ее окну, залезли и навтыкали всего этого острого, злого на подоконник у влюбленной сестры так, чтобы, прилетев, он себе грудь изранил. А саму ее опоили молоком, подсыпав туда мака. Она упала и заснула. А сокол нагулялся в синем небе и прилетел к ней скорее. Бился, бился, бился, бился, всю грудь изранил, серые перышки кровью своей птичьей замочил. Застонал, заплакал, рассердился. «Ищи меня теперь где хочешь. Найдешь, коли сгложешь три просвиры каменные, стопчешь трое башмаков железных, три посоха чугунных сотрешь на нет». Закричал, закричал, растянул длинные крылья, головкой маленькой повертел с клювом загнутым, хищным, и улетел. А она металась на кровати. Она слышала и как он бился, и слова его жестокости непомерной, и даже свист его длинных крыльев, но проснуться тогда не могла еще.