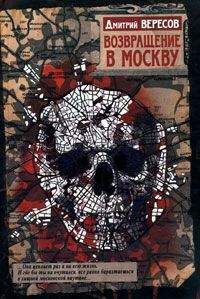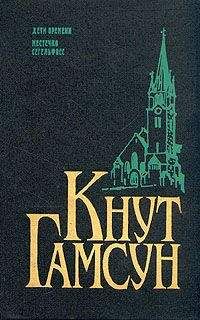Энтомология для слабонервных - Качур Катя
* * *
Баболда всю ночь стонала. Сухонькое тело её болело повсеместно, включая жёлтые ногти и длинные без седины волосы (вот же чудо природы!). Маруся щелкала в постели костяшками пальцев, ворочалась с боку на бок, прижимала к себе рыжего Архипа, заговаривая разбушевавшийся от непогоды артрит. Максим тёр плечо с застрявшей в мышце пулей и этой же рукой, не просыпаясь, крутил невидимую баранку. Которую уже ночь, а после войны прошло их почти четыре тысячи, вёл он «студебекер» по Военно-Грузинской дороге, чувствовал каждую кочку, каждый изгиб, видел, как срывались в пропасть другие грузовики. Печку затопили впервые с начала лета, и дети, попрыгав туда, обнимали друг друга, а заодно и народившихся от Машки лупоглазых ягнят. Улька сидела у тумбы с ипритовыми шарами, прикладывая ухо к тихонечко играющей «Балтике». Всесоюзное радио транслировало лирику, Улька водила пальцем по шоколадной карболитовой рамке, роняла на кружевную салфетку слезы и икала, измученная любовными страданиями.
– Уленька, ложись уже спать, родная! Утро вечера мудренее, – шептала с кровати мама, жалея горемыку.
Ветрила бился об окна так, будто мечтал и сам спрятаться в доме от кого-то более страшного и могучего. Грядущее мудрёное утро не обещало облегчения. Улька, как учила мама, резко выдохнула и начала составлять в голове план дел на следующий день. Покормить Апрельку, Машку, курей. Вымыть пол. Продолжить читать «Тома Сойера» Марка Твена. Сделать папе подарок ко Дню танкиста. Правда, отец справляет его девятого сентября, но нужно заранее. Взять кусок старого брезента и на нём вышить звезду. Или ватой набить снег, а на него прикрепить танк из бумаги. И написать: «С Днём танкиста!» Нет, так в прошлом году было. «Дорогому папочке-герою!» Да, вот так будет лучше. И погладить платье Баболде. Баболда! Она же обещала открыть сундучок! При этой мысли на душе у Ульки потеплело, будто под ребром проснулся нежный урчащий котёнок. Она вытерла зарёванное лицо краем сорочки и полезла по деревянной лесенке вверх на печку к родным и уютным братьям и сёстрам.
Небесные паруса
Аркашка очнулся от тяжёлого, бредового сна, когда горизонт на востоке посветлел. Дождь чуть накрапывал, небо было похоже на серый ватин, выдернутый из старого пальто и расстеленный на полу. От холода свело ноги, пальцы рук не гнулись. Голова раскалывалась, тошнило, хотелось пить. Он выжал себе в ладонь грязную воду из мокрого рукава куртки и втянул её губами. Мерзкая жижа с привкусом земли и грязной ткани не утолила жажду. Дождавшись окончательного рассвета, Аркашка, шатаясь, встал на ноги, вышел, продираясь сквозь высокие колосья, на пустую дорогу и осмотрелся. Тяжёлый сон хоть и усугубил его физическую немоготу, но ум относительно ночи прояснился, подключив внутреннее чутье и математический расчёт. Гинзбург напряг мозг, проанализировал вчерашний путь, и понял, на каком перекрёстке между полями пошёл не в ту сторону. «Пусть исходный перекрёсток будет точкой А. Мельница – точкой Б, – размышлял он, широко шагая и пытаясь разогнать стылую кровь. – В прошлый раз мы шли от А до Б примерно полчаса. Человек идёт со скоростью пять километров в час. Мы были уставшие, значит, шли медленнее. Допустим, четыре. Одна вторая часа умножить на четыре – два километра. До мельницы два километра. Если идти два километра на юг – вернусь в Прудищи. Скорее всего, север, северо-восток. Солнце встало вон там. Значит, беру левее».
Действительно, минут через тридцать пути Аркашка увидел вдали чернеющую махину с лопастями, которые крутились, как гигантский шар перекати-поля[24]. Хмурым утром мельница выглядела ещё страшнее, чем лунной ночью. Размахивая живыми руками-крыльями в попытке защитить глаза от смертельной зари, она напоминала привидение, выдернутое из вампирского логова на свет. Гинзбург застыл, заворожённый мощью ветряного механизма, и, казалось, мгновенно просох, цепенея от ужаса своей затеи. Медленно подошёл ближе. Мельница оптически выросла, глаза упёрлись в почерневший от времени сруб амбара, поверх него с гулом вертолётного пропеллера носились зловещие лопасти. Ветер сбивал с ног, и Аркашке пришлось прижаться к бревенчатой стене, чтобы не упасть. «За лопасть можно уцепиться, только стоя на амбаре. Высота амбара два с половиной метра, – варила Аркашкина голова. – Нужна лестница. Где-то должна быть лестница. Ищи, дурак».
Перебирая ладонями по брёвнам с остатками обломанного тёса, двигаясь боком, Гинзбург обошёл кругом амбар и упёрся в дверь. Она была закрыта на некогда мощную щеколду, но от ветра билась взад-вперёд, желая вылететь наружу к чёртовой матери. Аркашка с трудом отодвинул засов, дверь рванула с петель, словно держалась не на железе, а на шёлковых нитках, и с грохотом брякнулась на землю. Внутри оказалось сухо и тепло, будто это была последняя обитель, откуда ветер не успел выгнать жаркое полногрудое лето. Везде валялись сломанные доски, старые пустые мешки и разбитая посуда. Полки то здесь, то там ещё были припорошены мукой. Аркашка лёг на одну из них и поджал колени к груди. Захотелось остаться здесь навсегда, замереть, забыться, стать осколком глиняного горшка, пучком соломы на полу, мучной пылью, посеревшей от времени, – чем угодно, только бы не высовываться наружу, не видеть этого великана, бушующего над головой. Сюда, вниз, от его исполинских парусов доходила крупная зловещая дрожь. Вибрировали стены, тряслись несущие бревна, гудел сломанный механизм жерновов над головой. «Сейчас или никогда, – стучал зубами от страха Аркашка. – Сейчас или никогда!» Привыкнув к сумраку, он разглядел под завалом хлама фрагмент приставной лестницы, потянул за край и вытащил её на пол. Лестница оказалась довольно хлипкой, ступени болтались, последняя отсутствовала. Аркашка долго рылся среди сломанных досок, нашёл подходящую по размеру деревяшку, вставил её как распорку между двумя перекладинами и проверил на прочность. Снова сел на лавку, оперся локтями о колени и уронил голову в ладони. «Я разобьюсь. В этом нет сомнений, – раскачивался он из стороны в сторону. – Ветер шквалистый, неровный. Скорость вращения крыльев бешеная. Меня никто не оценит. Никто не увидит. Никто не найдёт. Я улечу, как Экзюпери, в направлении восхода. Но, в отличие от него, меня не за что будет помнить… Зойка через пару лет найдёт мои кости и захоронит в своём гробу с трубой. Буду дышать через неё свежим прудищенским воздухом. А Булька даже не станет ходить на могилу, полагая, что я так и умер трусом». От жалости к себе Аркашка заплакал, сначала тихо, размеренно всхлипывая, затем глубоко хватая воздух и вскрикивая на вдохе, а потом и просто рыдая, воя белугой, задыхаясь моментально заложенным носом и пережатой спазмом трахеей…
Наревевшись, он вытер мокрым рукавом сопливый нос, взял лестницу, неумело перекрестился (подсмотрел у Баболды), прошептал любимое папино заклинание «Если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой[25]» и вышел сквозь дыру без двери в свирепствующий, хищный мир. Амбар частично просел, и Аркашка, найдя самое низкое место, противоположное от лопастей, прижал к стене лестницу. До крыши не хватало около метра, но он рассчитал, что сумеет уцепиться и подтянуть ноги. Заглубив нижние концы лестницы в траву и прикопав землёй, Аркашка вынул всё из карманов – монетки, камешки, облезлую лянгу – и полез наверх. Лестница ходила ходуном, куртка парусилась от ветра, наполовину оторванная подошва цеплялась за шершавую древесину и мешала движению. Кое-как добравшись до последней ступеньки, Аркашка захватил пальцами рук крышу амбара, но самодельная доска с хрустом вылетела из-под ног, и Гинзбург с размаха шмякнулся спиной оземь. Прыжком вернувшись на ноги, повращав плечами и локтями, он убедился, что не переломан, и повторил попытку. Только теперь вместо верхней ступеньки упёрся носком ботинка в торчащий край лестничной вертикальной опоры, нащупал ладонями на поверхности крыши какой-то крюк и, ухватившись, подтянулся наверх. Крыша амбара оказалась абсолютно хлипкой. Насквозь прогнившие доски рассыпа́лись прямо под ботинками. Гул от пропеллера был таким мощным, что у Аркашки заложило уши. Ветер мигом забил их, а также рот и нос, какой-то мокрой трухой. Совершенно оглохший, с песком на зубах, толкаемый в спину потоками воздуха, он опустился на четвереньки и пополз в сторону гигантских лопастей. От края парусов до крыши амбара было около полутора метров высоты. Оказавшись прямо под крыльями, Аркашка почувствовал себя шелухой, прилипшей к циферблату курантов на Красной площади. Над тобой носятся махины-стрелки, а ты мелок, прозрачен, бздлив, а главное, не представляешь никакого интереса для мироздания. С очередным порывом ветра от куртки оторвало последнюю пуговицу, и плащовка, раздувшись парашютом, поволокла Аркашку к краю амбара. Изловчившись, он сбросил её, затем ботинки и остался в одной рубашке с брюками. Крепкий офицерский ремень, подаренный папой, намертво держал и то и другое. Пригнувшись под смертельными лопастями, Гинзбург пропустил несколько кругов вращения, попытался привыкнуть к страху и рассчитать время приближения каждого последующего крыла. Вдруг, с очередным рывком ветра, он почувствовал какой-то нечеловеческий, звериный азарт. Одежда высохла, кровь раскалилась до температуры мартеновского металла, в мышцах появилась дьявольская сила. Аркашка, задрот, умник-математик, защитник всех обиженных и бестолковых, встал во весь рост, дыша по-драконьи и сверкая очами, поднял не свои, великанские, руки и… вцепился в пролетающую мимо него лопасть…