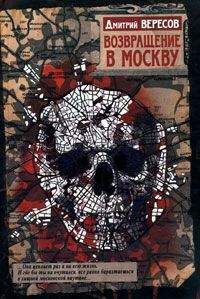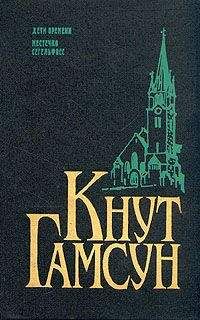Энтомология для слабонервных - Качур Катя
Машка была старой, упёртой овцой, с такой же долей говнеца в характере, как и у Бори. На правое ухо малиновой краской Иванкины нанесли ей пятно, отличающее от соседских парнокопытных. Аркашка ловил себя на мысли, что завидует этой меченой животине: по отношению к юной хозяйке Машка позволяла себе равнодушие и сарказм. Она не считалась с Улькиным настроением и не робела перед ней, а, напротив, заставляла плясать под свою дудку. То плелась медленно, останавливаясь и громко блея, будто матеря весь мир. То стартовала, словно ужаленная, сшибая всех на своём пути. Гинзбург хотел быть Машкой, хотел быть пёстрыми курицами, что держала Улька на руках, полосатым рыжим Архипом, которого она чесала за ухом. Но больше всего пятнистой Апрелькой, зацелованной в мягкий коричневый нос. Маруся видела страдания Аркашки, хотела было пригласить его домой, но замоталась в борьбе с осенним урожаем, рассовывая по бочкам кабачки, патиссоны, маринуя огурцы, арбузы, засаливая капусту с морковью, мельча яблоки и черноплодную рябину для бражки. Баболда, обычно помогающая в этих делах, внезапно заболела, слегла в постель, пила травяные чаи и беспрестанно читала молитвы.
– Поди сюды, – позвала она как-то Ульку, трущую забрызганные дождём окна. – Я умираю.
Умирала Баболда периодически, ложилась на месяц в свою келью без окна и стонала, изматывая всех монотонностью хриплых звуков. Случалось это после изнурительных постов, которые держала она истово. Маруся, зная за свекровью богобоязнь и упертость, подливала ей в водичку животворящего куриного бульона. И Евдокия, заметив особую жирность и нежный вкус, ворчала:
– Козни мне строишь? Хочешь, чтобы в ад я попала?
– Да что вы, мамаша, какие козни? – хлопала себя по бёдрам Маруся. – Я плеснула бульончика, с меня и спрос. Вы здесь ни при чём. А потом, странникам и болящим можно и нарушать иногда. Наказания не будет. Главное, что вы душевный пост держите.
Баболда успокаивалась. Переложив на Марию все грехи, засыпала, по-гусарски храпя и проваливаясь в страну, где бродил любимый Ванечка, держала его за руку и вела по дорожкам – не по земным, да и не по небесным. Хотя на последних не бывала и точно утверждать не могла. А тут, на исходе августа, как зарядила дождливая неделя, пригрезилось Евдокии, что это Ваня взял её костлявую ладонь и повёл за собой. По розовым облакам, где паслись белые кони, где скакал хряк Боря (неужели сожрали всё-таки?), где сидели в мягких подушках вокруг нежаркого костра муж её – щёголь – да старший сын, на войне вдвоём убитые.
– Собирайся, Олдушка, – сказал муж, в рваной гимнастёрке и с перебинтованной наискось головой. – Заждались мы тебя… Да и Ванечку больше не дёргай. Наш он, наш. Просто замучился к тебе на землю ходить, слёзы твои вытирать.
Баболда вскрикнула, открыла глаза, отодвинула сухой рукой занавеску с проёма кельи и увидела Ульку, натирающую газетой окно.
– Поди сюды, Ульянка, я умираю.
– Да ладно, Баболд, ты последние четырнадцать лет умираешь, – подошла Улька, вытирая руки о передник.
– Не лай, – отозвалась Баболда, – слухай сюды. Вон там за божничкой[22] деньги лежат. Мне на похороны. Никто о них не знат. Как меня не станет, сразу отдай их маме.
– Ну ба!
– Не бабкай! Поди поближе!
Улька присела на край кровати и наклонила ухо к губам Евдокии.
– Вишь, сундучок у меня в изголовье? – спросила она, указывая пальцем куда-то назад.
– Вижу, конечно, – прошептала Улька, испытывая страшное волнение.
– Завтра, как все разойдутся, придёшь ко мне, вскроешь этот сундук и примеришь, чё там лежит, – прохрипела Баболда. – А я на тебя посмотрю. Только тссс! – Она прижала палец к иссохшим губам. – Никому не растрезвонь.
– Ладно, ба! Не волнуйся, всё сделаю!
Улька была в восторге. На бабушкин сундучок она засматривалась с самого рождения. Крупный, обитый чёрным бархатом, витиевато украшенный золотым шитьём, на бронзовых литых ножках с отворотами лепестков, с мощным замком, куда вставлялся внушительный ключ, и тяжёлой кручёной ручкой. Что хранилось в этом сундуке, из Иванкиных не знал никто. У детей даже была игра: отгадай, что в сундучке Баболды. Каждый представлял разное. Санька говорил, что там царские монеты, Пелагейка – что письма её мужа с фронта, маленький Юрка – заводной паровоз, Надюшка – усохшая рука какого-нибудь святого. А Ульке грезились бесконечные нитки жемчугов, серьги со сверкающими камнями, кольца с изумрудами, диадема с бриллиантами и много чего завораживающего, как у Бажова в «Хозяйке Медной горы[23]». В предвкушении увидеть это своими глазами Улька кинулась Евдокии на грудь и начала по-кошачьи урчать.
– Чего надо, подлиза? – Баболда ласково погладила её по мягким волосам. – Кисонька моя хитренькая!
– Ба, можно я тебе стих прочитаю? Знаешь, был такой автор Антуан де Сент-Экзюпери, мне Аркашка о нём все ночи рассказывал. И он написал про любовь Маленького принца к его слишком нежной и гордой Розе.
– Ишь ты, садовник, чё ли, писатель твой? – усмехнулась Баболда.
– Нет, ба, ну какой садовник. Принц, Роза, их планета – это аллегория такая. Любви, сиюминутности жизни… А Экзюпери – он лётчик, пропал без вести над морем, как будто сам улетел в неведомую страну.
– Как Ванечка мой… – Глаза Баболды увлажнились, в лице появилась теплота. – Ну давай, стих-то. Читай.
Улька попыталась устроиться поудобнее на бабушкиной кровати, подмяла под себя платье, закрыла глаза, подняла фарфоровый подбородок и выдохнула:
– Нет… Не могу, ба, стесняюсь.
– Дура какая, – улыбнулась Евдокия. – Кого стесняться-то? Ты да я. И Господь над нами. Читай. Не томи.
Улька поперхнулась, откашлялась и упёрлась взглядом в алый цветочек на Баболдином пододеяльнике.
Я выпущу шипы в последний раз,
А ты накроешь колпаком меня,
Придёшь в свой дом, и в предрассветный час
Не обнаружишь алого огня.
Я улечу в ту вечность, в те миры,
Где нет шипов, где все цветут, любя.
Ни холода, ни ветра, ни жары —
Так хорошо. Да только нет тебя…
Планетка наша не сорвётся вниз,
И баобабы вновь дадут ростки,
Но я умру, а это лишь каприз,
Кому нужны капризные цветки…
Таких, как я, – мильоны на Земле,
Они живут, людей не теребя.
Цветут, благоухая в хрустале,
И счастливы. Но как же без тебя…
Прости, мой принц, я так была горда.
И глупые слова мои забудь.
Но если ты уходишь навсегда,
Любовь моя пусть озарит твой путь…
На последних словах Улька всхлипывала, роняя слезы на пододеяльник и дёргаясь плечами. Баболда взяла её за руку и, просветлев, разогнав морщины к ушам, вздохнула:
– Ладно пишет, лётчик твой, любил, видать, сильно…
– Ба, это не лётчик написал, это я…
– Свят, свят, свят! – Баболда осенила Ульку широким крестом. – У нас в семье никто рифмоплётством не занимался.
– Аркашка сказал, что все жёны и дочери Гинзбургов писали стихи. Вот я и решила попробовать…
– Значит, так, – перевела разговор Баболда. – Ты Аркашку когда последний раз видела?
– Неделю назад.
– Гордость свою в кулаке жамкашь?
– Жамкаю.
– А то, что он уезжат через пару дней, знашь? – строго спросила Евдокия.
– Знаю! – вытирала слёзы Улька.
– Так вот беги к Баршанским, ежели он там, мирись и стих твой на бумажке сунь в руку. Пущай прочтёт, когда в город свой вернётся. Вот увишь, обрыдается.
– Ты правда так думаешь, ба?
– Правда, дурёха! Мне перед смертью-то чё врать. Беги, говорю, соплями простыню-то мою не пачкай.
Экзюпери
Говорила же мама, что надо взять с собой тёплую куртку. Плащовка ни хрена не греет, ботинки порвались ещё месяц назад – с Шуревичем тогда играли в футбол. И эта прудищенская жижа, как могильная змея, лезет прямо в дыру под пятку. Чернозём, написано в учебнике географии. Адов поволжский чернозём. Скользко. Ветрище. Дождь хлещет. Для побега из тёплого дома и от самого себя – не лучшее время. Но разведчик майор Экзюпери тоже не выбирал погоду, когда его отправили из Корсики в Лион для аэрофотосъёмки. Однако он взлетел и скрылся за горизонтом. Приземлился? Прилунился? Вернулся на свою планету к шипастой капризной Розе? Этого не знает никто. И я взлечу. Не взлетишь. Взлечу. Нет. Да. Нет. Трус, пахдан, болтун, слабовольный математик. Булька была права.