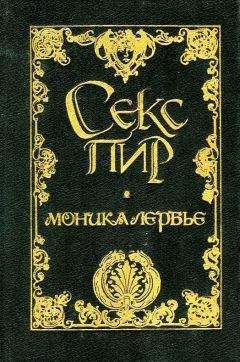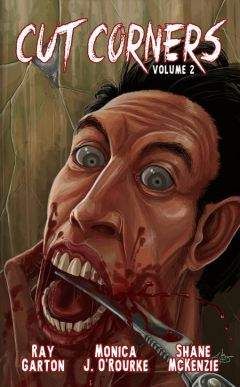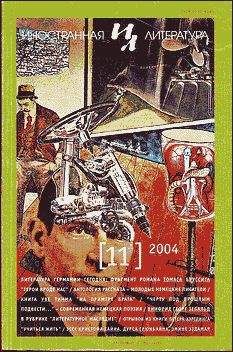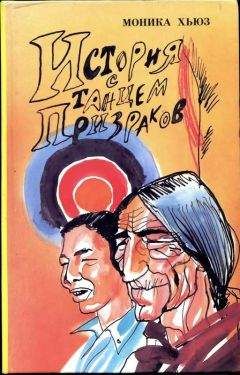Багаж - Хельфер Моника
И опять Мария забеременела, на сей раз ее тошнило и рвало каждый день, и она похудела, а когда расчесывалась, на гребне оставалась полная горсть волос. То был мальчик. Его окрестили Йозефом. Так пожелал его отец. Но всю жизнь его звали уменьшительным именем Зепп.
Марии, моей бабке, было тридцать два года, и к этому времени она родила на свет семерых детей.
А потом она заболела. У нее раздулся живот, и она кричала от боли. Йозеф велел вызвать по телефону врача. Тот установил, что у нее слепая кишка не на той стороне. Мария умерла. Через месяц после появления первой боли.
А спустя двенадцать месяцев умер и Йозеф. От заражения крови. Он поранился, когда колол дрова. Под конец, когда он в своем черном костюме лежал на лавке у печи и уже не мог встать, его лихорадило, пришел бургомистр. Сказал, что ночью на него снизошли духи и грозили ему, что будут терзать его день и ночь до самой смерти, если он не скажет правду. А правда состояла в том, что с Марией у него ничего не было, он хотел бы, но Мария его отвергла, не дала ему ни искорки надежды, да, ни искорки, ни ему, ни тому человеку из Ганновера, Мария была самой верной женой, какая только жила на земле со времен Матери Божьей, и Грете есть дитя Йозефа, самое что ни на есть.
Тетя Катэ рассказывала, что ее отец слушал и кивал. Понимал ли он что-то из того, она не знала. На следующий день он умер. И они, дети, остались одни: Генриху было девятнадцать, Катарине восемнадцать, Лоренцу семнадцать, Вальтеру тринадцать, Грете семь, Ирме три, Зеппу два года.
Дети сидели на родительской кровати, все рядком, в ногах у них лежала собака, на коленях у Грете мурлыкала кошка, за окном чирикали птицы. Была весна. В щели задувал духовитый теплый ветер фён. Лазоревка проклевала прогалину в круге из семечек, Катарина насыпала для черных дроздов мелко нарезанных яблок; малиновки и зяблики замерли от ужаса, когда налетел ястреб. Сойка склевывала с веранды рассыпанную сухую лапшу. Потом все стихло.
— Когда поет дрозд… — сказала Грете, но замолчала, как будто в голову ей пришла какая-то другая мысль.
Вальтер и Грете были белокурые, с тонкими волосами, и среди своих темноволосых братьев и сестер казались как будто из другой семьи.
В этих стенах еще обитали родители; кровать и матрац, сложенная одежда матери сохраняли ее запах. Можно было подумать, что сейчас она оденется и выйдет из спальни. Новую одежду отца, только не черную, примерил на себя Генрих, потому что ему так велела Катарина, но он чувствовал себя в ней неуютно. Она бы лучше подошла Вальтеру, но была ему пока что велика. А можно мне взять мамин платок с бахромой, попросила Ирма, он пахнет мамой.
Лоренц наблюдал за охотниками. Крался за ними по следу. Хотел знать, когда они идут на охоту. И как долго там остаются. Он хотел охотиться с Генрихом и Вальтером в другое время. Речь шла только о прокорме. Это были слова тети Катэ: «Речь тогда шла чисто о прокорме».
У Лоренца было ружье, сработанное Финком. Оно было его собственностью. Никто больше не претендовал на него. Генрих и Вальтер должны были загонять на него дичь. Он убивал косулю или серну, а Генриху и Вальтеру доставалось завернуть добычу в холстину и отнести домой. А Лоренц шагал рядом с ними, не убирая ружье на плечо, а неся его в руках наготове. Зайцы тоже годились на стол. Какие птицы были съедобны, а какие нет, Генрих не разбирался. Можно ли есть дроздов? Их было легче всего добыть. Они сидели в траве и смотрели в дуло ружья. Хищные птицы были несъедобны, это ясно. От воробьев мало толку. А голубей здесь не водилось. Лоренц грезил оленями, и пару раз они попадались ему на расстоянии выстрела. Рога оленя он сберег бы и таскал их за собой, куда бы его ни бросила жизнь. Знать бы ему, что жизнь заведет его во время Второй войны в Россию, где он дезертировал и основал свою вторую семью, он бы сказал: «Рога беру с собой!» Но не довелось моему дяде Лоренцу пристрелить ни одного оленя.
Попадались ему на расстоянии выстрела и охотники. Они кричали и махали ему руками.
— Эй ты, из «багажа»! — кричали они. — Слышь, ты, из «багажа»! Здесь наша делянка!
Тогда впервые его окликнули по уличному прозвищу их дома. Это значило: уважают! И: они ожидают, что он будет вести себя подобающе. И что он уже показал себя заслуживающим уважения. А если бы он украдкой сбежал, его бы не уважали. И он поднял ружье, приложился щекой к прикладу и прицелился в них.
— Эй, Багаж! — крикнули они. — Сегодня стреляем мы!
Это могло означать только одно: завтра можешь стрелять ты. А что еще это могло означать? И еще это означало: мы здесь равны, больше нет никаких «мы» и «вы», теперь мы на одном уровне, только вы стоите на одной стороне, а мы на другой.
— Опусти ружье! — крикнули они.
Сердце его колотилось, и он надеялся, что охотникам не видно, как его куртка вздрагивает поверх сердца. Он выдержал, ружье не опустил. И они повернулись. И ушли. Это могло означать только одно: сегодня стреляете вы, а уж мы завтра. То есть наоборот. Итак, он победил. Он шел домой медленно, такой поступью, как будто стал старше на двадцать или даже на сто лет, этакий горный дух, который нежданно-негаданно объявился в лесу, и охотники с ним считаются и предоставляют ему день охоты. Дойдя до источника, он позвал Генриха и Вальтера. И с этого дня охотники знали: если «багажи» в лесу, надо возвращаться домой. Иметь уважение!
Не было в деревне человека, который не восхищался бы Лоренцем. Не было в деревне человека, который не восхищался бы «багажами». По-настоящему они стали «багажами» после смерти их родителей. Никто не сомневался, что Лоренц пристрелил бы человека, который помешал бы ему заботиться о братьях и сестрах. Но никто не сомневался и в том, что рано или поздно они попадут в тюрьму. Все вместе, весь «багаж». Потому что: они были отребьем. При всем восхищении: отребьем. Благочестивые женщины причисляли это племя к тому, кто в преисподней. Если бы Господь любил этих детей, он бы не отнял у них так рано отца и мать.
Черноглазая Ирма вертелась перед зеркалом и находила себя очень красивой. Она была худая и больше походила на отца, и белым лицом она уродилась в него. У нее были на свой счет большие замыслы. Она выйдет замуж за богача и тогда обеспечит своей семье лучшую жизнь. Но все получится по-другому. В семнадцать лет она влюбится в учителя, а он женат. И она возмечтает заполучить его к себе в постель, великая мечтательница. Уже когда и Катарина, и Грете были замужем, она все еще оставалась незамужней и ждала, что жена учителя помрет. Несколько мужчин за ней ухаживали, и она всех отшила, за исключением студента теологии, которого отговорила стать священником. И вышла за него, и все удивлялись, что как раз ему удалось подчинить себе темпераментную Ирму. Она стала кроткой и в конце концов смотрела на него снизу вверх. Он был шумный, громогласный, даже слишком громогласный: когда говорил, то через два дома можно было расслышать каждое его слово, да к тому же. эти слова были грозные, а когда он смеялся, то в шкафу звенела посуда. Он был воспитателем в детском доме для детей без отцов, экспертом по богоугодной части. Но сам не был в этом так уж строг, и вскоре у него уже была вторая жена, он жил попеременке то у Ирмы, то у другой. Одинокая старая соседка оставила ему в наследство дом. Потому что он такой хороший человек. Очень громкий, очень грубый, но очень хороший человек. Который разговаривал с Богом лично, один на один. Оттого и громкий голос. Он вступил в права наследства, и Ирме было стыдно, когда она на улице встречала обозленных наследников. Громогласный мужчина ослеп, обучился ремеслу массажиста, и его очень любили женщины, которых он массировал в подвале.
Однажды, когда все они еще были «багажом» и жили на задворках долины, пока дом не продали с молотка, у Ирмы была идея, чтобы вся семья, состоявшая только из братьев и сестер — Генрих, Катарина, Лоренц, Вальтер, Грете, она сама и Зеппеле, — в полном составе эмигрировала в Америку, это было в те времена, когда у них вообще не было ничего. Она вычитала где-то, что в Северной Дакоте ищут людей, там можно бесплатно получить землю, бревна и пиломатериал на строительство дома. Но ее братья и сестры не захотели, а одна она оказалась бы там слишком одинока. Когда у нее позже появился громогласный муж, разговоры об Америке прекратились.