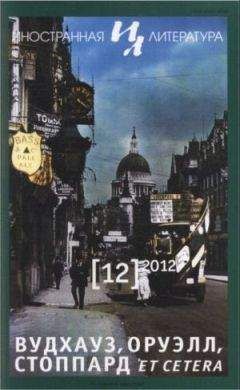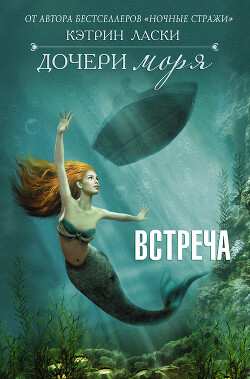Малыш пропал - Ласки Марганита
— А теперь расскажите мне, пожалуйста, о Лондоне, мистер Уэйнрайт. Наверно, сегодня я бы едва узнала мой Холланд-Парк. Он сильно пострадал от бомбежек?
Хилари не устоял перед ее очарованием. Он сознательно постарался приспособиться к ее мироощущению, к ее эпохе, тщательно подбирал слова из лексикона тех писателей, которыми, как он полагал, она должна была восхищаться. Таким образом он и рассказывал ей о Лондоне во время и после войны, об английских нравах и обычаях, о меняющихся вкусах и правилах приличия, ни на минуту не забывая соотнести свой рассказ с тем, что она должна была знать. Мало-помалу он дал ей возможность полностью завладеть беседой и с истинным восторгом знатока вслушивался в ее речь, когда она принялась рассказывать о своем деде, чаеторговце, — «но при этом и он, и все его семейство были весьма привержены литературе, всегда интересовались новыми писателями своего времени», — о кузине Эллис, натуре художественной, которая однажды принесла книгу с иллюстрациями мистера Бердслея, дед, не долго думая, кинул ее в горящий камин, и никто не посмел ему слова молвить, а еще о Гарри: «он такой был добродушный, мистер Уэйнрайт, все над ним потешались, насмешничали», но он, увы, погиб смертью храбрых во Второй Матабельской войне.
Беспокойно мигал тусклый свет, мадам Меркатель вела рассказ, мсье Меркатель сидел в кресле, расслабленно удовлетворенный, а Хилари слушал и наслаждался счастливым ощущением обретенной здесь и теперь радости и свободы этого вечера.
Речь старой дамы замерла, какое-то время они сидели, ничего не говоря, будто старые друзья, которые могут себе позволить вместе помолчать, и только и слышно было, как потрескивают в очаге зеленые поленца. Хилари вздохнул. Вздохом отозвалась и мадам Меркатель, потом спросила:
— Что вы думаете о нынешней Франции, мистер Уэйнрайт?
Хилари ответил искренно, как не стал бы отвечать, говори они по-французски:
— По-моему, она ужасна, ужасна и безмерно несчастлива. Я всегда любил Францию и восхищался ею, как ни одной известной мне страной, но, если говорить о том, какая она сегодня, на мой взгляд, она окутана гнилостными испарениями морального разложения.
Мсье Меркатель согласно и печально кивнул.
— Для меня самое ужасное, что все подряд оправдывают себя на том основании, что поначалу старались обмануть немцев, а потом это уже вошло в привычку, — сказала его матушка. — Было бы лучше вести себя честно, даже с немцами, чем дойти до того, чтобы обманывать друг друга и в конце концов самих себя.
Впервые с тех пор, как началась беседа между мадам Меркатель и Хилари, заговорил мсье Меркатель.
— Я не уверен, что мы действительно обманываем себя, — сказал он по-французски. — Я думаю, мы скорее делаем вид, будто обманываем себя, уж слишком многого нам следует стыдиться, даже самой правды.
— А что может быть хуже этого, хуже того, что французы вынуждены стыдиться правды? — горячо сказала мадам Меркатель, продолжая говорить по-английски. — Вы знаете, мистер Уэйнрайт, какова была изящная мода в Париже военного времени?
— Да, кое-какие иллюстрации я видел, — озадаченно ответил Хилари.
— Нам говорили, будто эти моды были задуманы как вызов немцам, хотели показать им красивых, нарядных женщин, каких у них не может быть, чтобы вызвать у них гнев. В дни моей молодости для тех, которые наряжались с этой целью, существовало вполне определенное название, — сказала она сурово, — и отнюдь не участницы Сопротивления.
— Но, maman… — начал мсье Меркатель. Матушка подняла руку, чтобы заставить его замолчать.
— Надо смотреть фактам в лицо. Я могу сказать это по-английски, но во мне довольно французского, чтобы быть уверенной в этом. — Она взглянула на Хилари и спросила: — Вы смотрите в лицо фактам, мистер Уэйнрайт?
— Стараюсь, — ответил он, сам не прочь понять, каков бы тут был честный ответ, — но я так редко уверен в фактах. — И подумал, какая пропасть разделяет его с хозяйкой дома, ведь она никогда в них не сомневается.
— Меня чрезвычайно заинтересовало, что вы приехали из-за маленького Жана. Представьте, не кто иной, как я, убедила мать-настоятельницу принять его.
— Не может быть! — оживленно отозвался Хилари. — Я этого не знал.
— Когда пришла старая прачка с ребенком, я как раз была у нее, мы обсуждали одно важное дело, — объяснила она. — Поначалу мать-настоятельница сомневалась, позволительно ли ей взять это дитя. Вы понимаете, их правила приема весьма строги. Но я имею на нее некоторое влияние — я возглавляю комитет дам нашего города, которые собирают деньги и одежду для приюта, — и убедила ее, что в этом случае немного расширить правила не возбраняется.
— Почему вы это сделали?
— Мне самой нередко бывает интересно в этом разобраться. По натуре я несентиментальна, и дети не вызывают у меня никаких особых сантиментов, это одна из причин, по которой нам легко найти общий язык с матерью-настоятельницей, она тоже несентиментальна. Но этого ребенка мне почему-то стало жалко, как никакого другого.
— Он достоин жалости, этот кроха, — с нежностью отозвался Хилари.
— А! Вы тоже это чувствуете, — с улыбкой сказала она. — Хотела бы я знать, разделяете ли вы и другое мое чувство, довольно странное, которое вызвал во мне этот мальчик, что помочь ему — большая радость?
Она внимательно вглядывалась в Хилари, приставив ко лбу желтую кисть руки с розовато-лиловыми вздувшимися венами. Но на его лице не отразилось ни намека на понимание или надежду, осенившие его при словах мадам Меркатель, и она не стала больше удерживать руку, вновь опустила ее на колени и мягко прибавила:
— У вас есть какое-то представление, ваш ли он сын, мистер Уэйнрайт?
Услышав этот вопрос, он должен бы возмутиться и холодно отвергнуть подобное вторжение в его частную жизнь, а ему хочется говорить об этом здесь и сейчас, с этими людьми, удивленно подумал Хилари. Хочется говорить об этом на своем родном языке с этой самой женщиной. С ней я всегда мог бы это обсуждать, даже до того, как пришел сюда, еще в белом безвкусном доме в предместье Лондона или еще в доме из красного кирпича подле сада Собора св. Павла. И вдруг мелькнула мысль, а не скажет ли она, как мне следует поступить, и лишь потом он ей ответил:
— Я не знаю, мой ли он сын. Я не вижу в нем ничего, что дало бы мне понять, мой он сын или не мой. — И прибавил про себя: я даже не уверен, хочу ли, чтобы он оказался моим сыном.
— Как учитель этого мальчика, я полагаю необходимым поделиться с вами, мсье, своими мыслями о нем. Разумеется, я не могу сказать, ваш он сын или нет. Я лишь могу утверждать, что он сын кого-то вроде вас, — сказал мсье Меркатель.
— Что это значит? — спросил Хилари.
— У него совсем иной умственный потенциал, чем у других мальчиков, — сказал мсье Меркатель. — Заметьте, я не говорю, что он может стать блестящим ученым, о таких вещах судить еще не время. Но я преподаю в здешнем приюте уже много лет и никогда прежде ни о ком не мог бы с уверенностью сказать, что он происходит из культурной и интеллектуальной среды. У малыша Жана живой ум, — я бы, пожалуй, сказал, он ощущает причинные связи, — именно это отличает его от других детей, с которыми мне приходится иметь дело.
Слушая мсье Меркателя, Хилари преисполнился гордости. Значит, ему нечего стыдиться, подумал он, но сам же и возразил ему:
— Разумеется, ребенок, спрятанный таким образом, как Жан, будет скорее всего из семьи интеллектуалов. Ведь кто, как не они, при немцах должны были с наибольшей вероятностью попасть в беду.
— Вы, безусловно, правы, — согласился мсье Меркатель.
— А что вы скажете о физическом облике ребенка, мистер Уэйнрайт? — спросила его матушка. — Усматриваете ли вы какое-то сходство?
— Нет, — чуть ли не с отчаяньем ответил Хилари. — Он совсем не похож на мою жену, я уверен.
— У вас есть с собой ее фотография? — последовал вопрос мадам Меркатель.
Маленькую фотографию, которую он носил в бумажнике, сделал его оксфордский приятель, когда приезжал погостить у них в Париже. В ту пору молодые люди, увлеченные фотографией, состязались в создании прихотливых портретов, один эффектнее другого. Персонажу предлагалось растянуться на полу, голова непременно на глубинно черном фоне, и фотограф, прищурясь, прицеливался в нее взглядом сквозь бокал с шампанским. По тем меркам фотография, которую хранил Хилари, была сравнительно традиционная, и все-таки ему отчаянно не хотелось показывать ее мадам Меркатель. Он не спеша доставал бумажник и представлял лицо на карточке, игру света и тени, благодаря которой выделялись гладкие блестящие волосы и покоящиеся в ладонях круглые щеки, сжатые длинными тонкими пальцами; все это на непроницаемо черном фоне, увиденное вприщур через глазок фотоаппарата сквозь бокал с шампанским; конечно же, это далеко не традиционная фотография традиционной викторианской жены. Более того, он представил выражение лица Лайзы, свет ее продолговатых глаз, что задумчиво глядят вкось, мимо камеры. Таким бывало ее лицо, когда, насытившись ею, он лежал на постели и видел, как она смотрит на него сверху. Однажды он сказал ей: