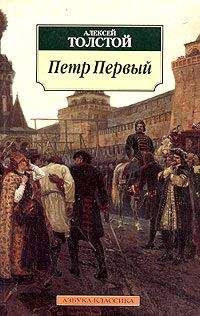Хилари Мантел - Этажом выше
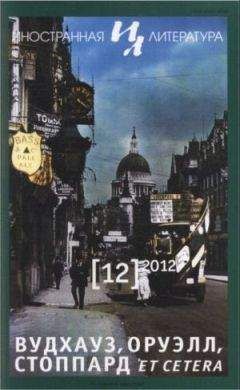
Обзор книги Хилари Мантел - Этажом выше
Хилари Мантел. Этажом выше
Летом, между школой и университетом (учиться мне предстояло в Лондоне), я впервые пошла работать.
Мне было уже восемнадцать, я могла бы куда-нибудь устроиться и на прошлые летние каникулы, но пришлось сидеть дома с младшими, пока мама делала свою блистательную карьеру.
До моего шестнадцатилетия мама самоотверженно ухаживала за больным ребенком. Сперва им была я. Сразу после перехода в старшие классы я выздоровела — так сказать, в результате маминого волевого усилия. У меня больше не поднималась температура, а если поднималась, этого не замечали, а если замечали, то говорили: «Пустяки». Мое место в нашем быту занял брат с его одышкой и ночным кашлем. Я ходила в школу изредка, брат не ходил вовсе. Он играл один в саду под тоскливо-серым небом, в котором искрился редкий снежок. Лежал на диване перед орущим телевизором и перелистывал книжки. Как-то вечером мы смотрели новости. Вдруг всю комнату залил неестественный белый свет. Шаровая молния сорвала нижние ветки с тополя и высадила стекло — бабах! Кулак Господень. Вязаное покрывальце брата было все засыпано осколками, собака выла, дождь хлестал на пол через выбитое окно, на улице вскрикивали и взволнованно переговаривались соседи.
Вскоре после случая с молнией мама устроилась продавщицей в «Афлек и Браун» — маленький, тесный, старый универмаг в Манчестере. Она шла пешком до станции, ехала на поезде и снова шла пешком до Олдхэм-стрит. Это было странно: я думала, мама так всегда и будет домохозяйкой. Чтобы ходить на работу, ей пришлось завести белые блузки и черные юбки. Она купила их в С&Д и это тоже было очень странно: у нас дома одежда появлялась не из магазина, а в результате сложной череды метаморфоз. Из распущенных кофт получались вязаные береты, споротыми воротничками надставляли подол, рукава для толстых превращались в штанины для худых. В семь лет я носила пальтишко, сшитое из двух старых пальто моей крестной. Карманы, лацканы, всё уменьшили, только пуговицы остались прежние и торчали на моей цыплячьей груди как обеденные тарелки или мишени для стрел.
Мама училась в то время, когда большинство не сдавало школьных экзаменов, так что в анкете при поступлении на работу писать ей было почти нечего. Тем не менее ее взяли, а вскоре на ее начальниц посыпались несчастья, из-за которых им пришлось уволиться. Мама стала замзав, а потом и завотделом. Она обесцветила волосы, сделала прическу вроде пирожного безе, купила туфли на высоченных каблучищах и завела особую наигранную манеру говорить и жестикулировать. Мама советовала подчиненным врать про их возраст, как бы намекая, что врет про свой. Она приходила домой поздно, раздраженная, и вытаскивала из крокодиловой сумочки что-нибудь невероятное. Например, пакетик рифленых картофельных чипсов со вкусом жира и воздуха. Или замороженные бифбургеры — на плите они скворчали, наполняя кухню желтовато-серым манчестерским смогом. Потом на жарку в масле был наложен запрет — чтобы не коптить стены, потому что у нас теперь был «приличный дом». Но к тому времени я переехала к моей подруге Анне-Терезе и о том, что едят другие, старалась не думать.
В семнадцать я была так же не готова к жизни, как если бы все детство пасла коз в горах. Я привыкла гулять среди лесов и полей. Привыкла ходить в Стокпортскую библиотеку и брать за раз по семь толстых книжек про латиноамериканские революции. Потом по часу ждать под дождем автобуса, передвигая пакет с книгами у ног и время от времени прижимая их к груди, когда казалось, что автобус вот-вот придет. С вожделением смотрела на их серые замусоленные обрезы и предвкушала, что найду внутри пометки деревенских чудиков: «НЕ Гватемала!!!», написанные, вернее, вдавленные на полях тупым карандашом, оставлявшим царапины от неровно очиненного края. У нас дома тоже никогда не было точилки. Если надо было очинить карандаш, мы шли к маме, она зажимала его в руке и срезала стружку хлебным ножом.
Такой дикой я выросла не из-за школы: большинство моих сверстниц были вполне нормальные для своего времени и окружения. Просто они, казалось, сделаны из более плотного, более добротного материала. Нетрудно было вообразить, что они станут женщинами в домах с мягкой мебелью и встроенным сушильным шкафом для белья. У меня же ветер гулял между костями, дым стелился между ребрами. Было больно ступать по мостовой. От соли на языке вскакивали типуны. Меня часто беспричинно рвало. Я просыпалась замерзшая и думала, что никогда не согреюсь. Когда в двадцать четыре мне предложили поехать в тропики, я согласилась, радуясь, что не буду больше дрожать от холода.
Что меня возьмут в магазин, было ясно еще до собеседования: кто в «Афлеке и Брауне» отказал бы дочери моей всеми обожаемой мамочки? Однако требовалось подвергнуться формальной процедуре. Приятный дяденька-кадровик в коричневом костюме разговаривал со мной в кабинете до того коричневом, что мне показалось, я прежде не видела этого цвета. Тут был пластик всех оттенков табачной слюны и желчи. Я вошла, свеженькая, как семидесятый год, в ситцевом платьице, но меня затянуло в пятидесятые, в бурый мир карточек социального страхования и пожелтелой памятки Совета по заработной плате на обшарпанной стене. Мне пожелали удачи и вывели в мир людей, на коврик у входа. «Вот коврик, вытри ноги», — сказал голос из-за вешалок.
Он исходил от студенисто-белого лица, обвислых щек, медленно движущейся массы жира, затянутой в черный кримплен так, чтобы было похоже на крутобокую цветочную вазу, от кожи того же мутноватого оттенка, что вода из-под гвоздик, которую не меняли несколько дней. Вонь подмышек, кашель: то была плоть моих коллег. Их здоровье сгубила жизнь в магазинах. У них был хронический насморк от пыли и цистит от грязных туалетов. Они жили на пятнадцать фунтов в неделю. Они не получали процент от выручки, поэтому старались по возможности ничего не продавать. Их насморочная злоба гнала покупателей назад к эскалатору и дальше на улицу.
Дяденька-кадровик определил меня в отдел рядом с маминым, так что я видела ее за работой: она вихрем проносилась по этажу в очередном экстравагантном наряде. Мама теперь не носила строгую, незаметную одежду, а сама выбирала платья из наших коллекций. Держалась она приветливо, чтобы не сказать снисходительно, притом с некоторой игривостью, которую отрабатывала на потасканных гомиках — других мужчин в магазине не было. Продавщицы — «девочки», как называла их мама, — любили ее за то, что она всегда такая красивая и веселая.
Мамины девочки были не такие убогие, как в нашем отделе, но скоро я поняла, что у всех у них есть свои неразрешимые жизненные проблемы. Маме проблемы ее продавщиц заменяли завтрак, обед и ужин — заменяли в буквальном смысле слова, потому что теперь ей по роли требовалось носить сорок четвертый, но врать, что у нее сорок второй, и таким образом подавать пример всей женской половине человечества. Девочки были разведенные, в долгах, страдали от авитаминоза и болезненных менструаций, маялись с трудными либо больными детьми. Их дома оседали, или обваливались, или оказывались в зоне затопления, или там заводился грибок. У меня было чувство, что все они специализируются на вышедших из употребления болезнях, вроде оспы и почесухи, о которых в наше время слышали только махровые пессимисты вроде меня. Чем хуже им было, тем заботливее мама их опекала. Даже сейчас, тридцать лет спустя, многие поддерживают с ней отношения. «Звонила миссис Д., — говорит мне в таких случаях мама. — ИРА снова взорвала их дом, а старшую дочку унесло в море. Просила передать тебе привет». На Рождество и в дни рождения, когда маме исполнялось не столько, сколько на самом деле, они дарили ей вазочки цветного стекла или атрибуты красивой жизни типа сифона для газировки. Все они как будто жевали слова, а вот мама и другие заведующие говорили, выпячивая губы, чтобы гласные звучали четко.
Я работала не в самом магазине, а в секции «Английская леди», рассчитанной на определенную категорию покупательниц, преимущественно пожилых, которые любили носить то, что там предлагалось: ансамбли, куда входили платье и жакет (я называла их «свадебной униформой»), летние платья и костюмы из синтетики пастельных тонов, которые легко стираются и гладятся. В те времена у многих еще жива была привычка покупать в апреле летние плащи из розовой процентовки или легкой шерсти в неяркую клетку. Еще они покупали блейзеры, блузки, длинные джемперы и брюки, под которые надевали пояса и чулки: пряжки подвязок выпирали сквозь ткань. Зимой «Английская леди» продавала пальто из верблюжьей шерсти, которые владелицы обновляли раз в несколько лет, ища (и находя) в точности такой фасон, как прежде. Зимние вещи нам завезли задолго до того, как я уехала в Лондон. Кроме верблюжьих, у нас были пальто, называемые «лама», — неприятного серебристо-серого цвета и косматые, словно вывернутая наизнанку власяница, только с карманами. На осень имелись щетинистые твидовые комплекты и громоздкие вонючие дубленки, которые мы приковывали к вешалкам цепями, чтобы не украли. Гуртовать их было трудной работой: они протяжно вздыхали, раздувались и дюйм за дюймом отвоевывали себе Lebensraum — жизненное пространство.