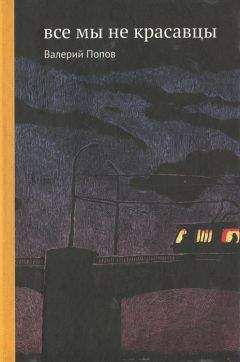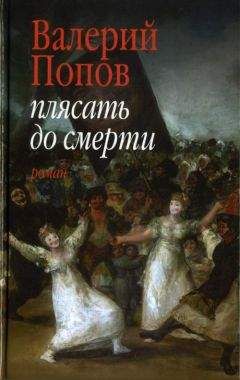Выдумщик - Попов Валерий Георгиевич
Интересно – в который? Помнится – больше я его выручал… В другие, правда, эпохи…
– Все будет в порядке, Алевтина Васильевна! Клянусь. Я ваш должник. И сына вашего я спасу. Я беру его на работу!
– Ну тогда, Фека, я спокойна!
И вскоре уехала. Я бы на ее месте не был так спокоен. Что же он удумал?
Звонок. Я открыл.
– Папа, папа! Как я рада, что мы приехали! – восклицала дочурка. – Какая квартира большая!
За ней, смущенно улыбаясь, вошла Нонна.
– Нам Фека сказал, что ты нас ждешь, скучаешь.
Настоящий друг.
Что делать? Прискакала семья. Забить на все – и жить своей жизнью? «Алкоголь все поставит на свои места!» – как говорили некоторые умные люди. Пить – и на все, кроме литературы, забить? Самые отчаянные так и поступали, и был в нашей литературе яркий «Портвейновый век». Я вовсе не идеализирую те времена 1970-х–1980-х, начала 1990-х, когда пьянство было делом серьезным, судьбоносным, когда порой, проходя по Невскому в день получки, перешагивал многочисленные тела. Не дай бог! Сейчас о тех лежачих лишь отдаленно напоминают «лежачие полицейские» на комфортабельных наших дорогах, по которым мы уверенно мчимся на дорогих автомобилях (дешевых, соизмеримых с пенсией, я в последнее время что-то не встречал). Капитализм победил, а с ним – здравый смысл, и это правильно, что когда мы приходим в бар, нам наливают «на донышке». Какие ж тут споры? Я просто вспоминаю то время, когда я был молод и горяч.
Пили тогда много и зачастую что в руки попадет, но все же именно огнедышащий портвейн сделался символом той эпохи: видимо, как сейчас выражаются – «из-за лучшего соотношения качества и цены». Боюсь, что под «качеством» понималась в основном сила его воздействия на организм: то есть сначала дикое возбуждение, потом – отруб. Помню, я сам написал горестные строки (точнее, одну): «Пил – и упал со стропил». Но нашу скудную жизнь той поры он расцвечивал и согревал… Поскольку «предварительные ласки» обостряют ощущения не только в сексе, но и в выпивке, было много ласковых имен у любимого народом вина. Чем больше его «приласкаешь», тем с большим наслаждением пьешь. Люди простые ласково называли портвейн «портвешком», люди творческие придумывали имена, делающие напиток более экзотическим, иностранным – произносили, к примеру, «портвайн» или, помню, «портваген». Несомненно, он пробуждал в нас фантазию, небывалые ощущения. В темно-красной его глубине виделись жаркие закаты в южных морях, кровь корриды, ноздри волновал чувственный аромат каких-то недосягаемых губ. Фантазировать, вкушая его, было легко, и что греха таить, в талантливых душах наших современников он породил много дивных картин и упоительных строф. Опасность его поначалу не ощущалась, и многие не смогли вовремя остановиться. И что значит – «вовремя», если с какого-то момента он становится единственным «горючим», на котором можно «достичь недостижимого», а для творческого человека – именно в этом смысл жизни. Портвейн (особенно в тогдашней модификации) – это, несомненно, допинг, но в отличие от нынешних времен, те высокие цели, которые были достигнуты в паре с ним, не отменяются. Да и как можно отменить искусство, а тем более – жизнь? И когда я вспоминаю те времена, почему-то приходят на ум эпизоды все больше радостные – или глубоко поучительные, философские, или даже пусть и трагические, но со светлой слезой. Нет – не зря мы, не зря мы жили и пили! Мы же сражались с зеленым змием (так обзывали тогда алкоголь), с главным врагом человечества, и порой – одерживали неслабые победы! Не один вред нес напиток – были и взлеты. И дело, конечно, не столько в нем, сколько в тех людях, о которых мы сейчас вспоминаем.
Помню заседание суда, выпустившего своим решением на свободу гениального поэта Олега Григорьева… правда, после вполне заслуженной им отсидки в камере предварительного заключения, где Олег находился за то, что сбил фуражку с милиционера, посетившего его дома в неурочный час. Сразу после выхода Олега из-за барьера, отделявшего его от нас, мы, ухватив его, бежали по длинному коридору с редактором Ольгой Тимофеевной Ковалевской, держа за обе руки освобожденного узника, а следом неслись, размахивая бутылками портвейна, тогда еще пьющие «Митьки»… План наш был – оторваться от преследователей, сесть в уже ожидающее такси и умчаться. И план удался! Может быть, потому, что придумал план побега сам Олег, еще находясь в застенке, подробности мы проработали посредством шифрованной переписки. Идея была – отвезти Олега в комфортное место, где никто не пьет, и продержать там недельку-другую, а там, глядишь, он уже и сам не захочет. Много было обожателей Григорьева, но найти обожателя-трезвенника было непросто. Но – удалось. Трезвенник-драматург встретил Олега шикарным чаем, и мы, увидев, как Олег спокоен и весел с чашкой в руках, радостные уехали. Дальше рассказывает драматург: он был счастлив видеть вблизи Олега Григорьева, стихи которого он обожал и знал наизусть, как и многие тогда, тем более что дорогой гость все более оживлялся, прихлебывая чай, и гениальные стихи и экспромты все чаще слетали с его уст. Такого восторга, рассказывает драматург-трезвенник, он не испытывал больше никогда! В какой-то момент он насторожился: восторг его явно зашкаливал, обычно сдержанный драматург с изумлением не узнавал сам себя… Как портвейн попадал в чай и как хозяин этого не заметил – останется загадкой для будущих биографов. Ведь Олег оказался за столом непосредственно после КПЗ и суда, никуда больше не заезжая, будучи большую часть времени отгороженным от других… И потом, интересно – как подливал? Талантливый человек талантлив во всем! Драматург долго ломал голову над этой загадкой: как горячительный напиток оказался в его крови? Может быть, портвейн находился в заварке? Может быть. Драматург захотел разгадать секрет, и они пили душистый чай чашку за чашкой, и в результате драматург сильно закосел. Жена, решив к ним тактично зайти и спросить, не нужно ли чего-нибудь еще, с изумлением увидела совершенно пьяного мужа-трезвенника, который вроде бы собирался спасать поэта от этого самого, чему неожиданно подвергся сам. Олег же, напротив, был собран, приветлив и фактически трезв. После драматург заявлял (и жена это подтверждала), что именно с этого дня произошел решительный перелом творчества его в лучшую сторону – и Григорьев окончательно стал их кумиром. А вы говорите – «портвейн»! В том поколении, «загубленном портвейном», оказалось необъяснимо много ярчайших звезд…
Многих творческих людей той поры, не имеющих времени, а порой даже и желания пробиваться в официоз, злобные завистники называли тунеядцами, включая в этот ряд и нашего нобелиата, – на самом деле людей более деятельных, чем они, не существовало.
Вспоминаю лучезарного поэта Володю Уфлянда, обожаемого столь разными людьми, как Довлатов и Бродский. Бродский современных поэтов не очень любил, особенно тех, кто работал «на его поле», а с Уфляндом им делить было абсолютно нечего, и Волосика, как называл его Бродский, он обожал всегда – «толкаться» им не приходилось, у каждого был свой отдельный огород, у Уфлянда (неплохо звучат два «у» подряд – типично в его стиле) огород пестрый, веселый и бесшабашный, какого не было – и не будет! – больше ни у кого. Пожалуй, он единственный талантливый поэт, абсолютно искренний в своем оптимизме. Редчайший в России, не нагнетающий искусственной скорби, как это делают многие, чтобы казаться значительней… Поэтому Бродский одного только Уфлянда – не по делам, а по душе – любил. А трагедий с головой хватало Иосифу и в своих собственных стихах. Зато Уфлянд – веселый. И вот уж тунеядцем его назвать – значит, обидеть. Он прекрасно шил, пилил, строгал – вся квартира была разукрашена его изделиями, висела его потешная графика, на грани гениальности, притом он честно работал на общество – сперва разнорабочим в Государственном Эрмитаже, а потом писал на «Ленфильме» замечательные диалоги и зонги для наших фильмов и дубляжа, либретто для опер. Даже и выпить ему порой было некогда: столько ждало его любимой работы. Кудрявый, улыбчивый, он и в стихах своих излучал оптимизм. Вот самое любимое мое – «Рассказ женщины»: