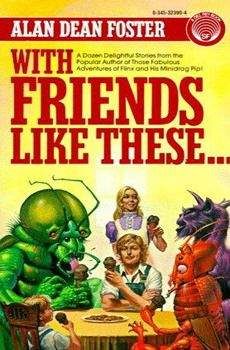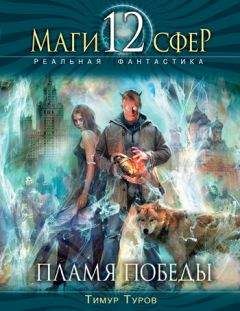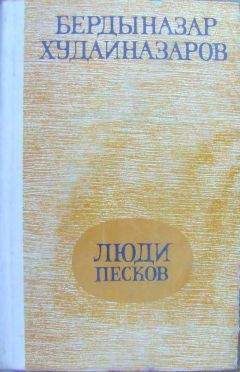Петр Проскурин - Имя твое
С этими полудетскими мыслями Егор повздыхал, потомился и заснул, накрепко уверенный в себе и своей правде в этом большом и грозном мире, и снилась ему Валька Кудрявцева и все то, что снится тысячи лет мужчинам его возраста, и от этого он жарко раскинулся на подушке и все чему-то улыбался во сне…
Ефросинья же так и не смогла закрыть глаза, а наутро, когда едва-едва забрезжил рассвет и пастух проиграл зорю и, собирая коров, вместе с подпаском огласил еще сонную тишину густищинских дворов бодрыми криками, щелканьем кнутов, ядреными шутками в перекидку с запоздавшими выгнать коров бабами, она пришла к крестному Захара Игнату Кузьмичу.
— Ну вот, дядька Игнат, — сказала она, войдя во двор к нему и присматриваясь, как он, несмотря на ранний час, строгает очередное косье. — Манька Поливанова вчера была у меня… Едет она к Захару, вроде позвал…
Быстро глянув из-под мохнатых бровей, Игнат Кузьмич стал еще усерднее шаркать осколком стекла по гладкой ручке косья, затем отставил его в сторону, к другим, и, хмуро полюбовавшись, своей работой, присел на чурбак.
— Сваляла ты, видать, баба, большого дурака, — сказал он, сворачивая «козью ножку», дурная привычка смолить табак завелась у него в войну, в партизанах, и он никак не мог покончить с него. — Как теперь одна будешь на свете? Умирать не пришла пора… Дети — они это, они до первого оперенья, там поднимутся на крыло — и поминай как звали…
Увидев ее лицо, он оборвал, с горечью отшвырнул от себя носком сапога обрезок доски.
— Сама решала, что ж ты сейчас-то заквохтала? — спросил Игнат Кузьмич. — Надо было раньше-то спросить…
— Не жалею я ни о чем, дядька Игнат. На душе как-то смурно, тянет душу-то…
— Еще бы не тянуло, — кивнул Игнат Кузьмич согласно. — Сколько лет прожили вместе, дети вон какие…
— Кабы дорого ему что было, другую бы не позвал. — Ефросинья, стараясь казаться спокойной, невесело улыбнулась. — Так уж, видать, суждено промеж нас.
— Он тебя, Фрось, почти год в письмах уламывал, — подосадовал Игнат Кузьмич. — Уперлась красной девкой, а жизнь — она без придумок себе ломит, дороги не разбирает… Ты как в той байке про журавля и цаплю… вот теперь одна и кукуй…
— Ладно, дядька Игнат, — остановила его Ефросинья. — Ты моего бабьего не поймешь, ладно, что говорить! Пойду я…
Игнат Кузьмич долго сидел неподвижно, не принимаясь за работу, остро пахло свежей щепой, небо совсем разгорелось, и солнце взошло, а он все сидел с потухшей цигаркой, уставясь в одну точку. А Ефросинья, ничего не замечая вокруг, прошла улицей к старым березам за околицей, затем, не задерживаясь, побрела в поле, прокладывая темный широкий след через овсы, отяжелевшие от росного серебра. В синевато-прохладном тумане дымился широкий луг, за ним вставали леса, манящие, гулкие, со своей потаенной жизнью. Она все шла и шла, и в ней сильнее и сильнее разгоралось мучительное желание сделать что-то такое, чтобы враз и навсегда все переменить. Она сейчас не думала ни о людях, ни о детях; она была одна в этом пустынном совершенно мире и, как смертельно раненный зверь, одиноко искала в нем исцеления. Что ж, что ж, звенел в ней незнакомый, чужой голос, что ж такого случилось? Ведь и раньше ты знала, что он к той, другой душой присох, чего же ты хочешь? Да еще и сама, боясь признаться, расчистила перед ним дорогу, мол, теперь уже все равно, раз совместной жизни не получилось. А видать, оно не все равно, значит, какая-то искорка в душе-то тлела, тлела, авось, мол, за войну что в нем и переменилось. Была это всего лишь дурная бабья надежда, теперь видно, а раз так, и жалеть не о чем, никто ей не нужен больше…
Над полем розовато светились рваные полосы таявшего под солнцем тумана, вставшие волнисто в небо столбы дыма над крышами села отдавали тусклым, переменчивым мерцанием.
* * *И сейчас Ефросинья не могла решить, правильно ли она поступила; за прошедшие два года боль несколько поутихла, и теперь приезд Брюханова и разговор с ним разбередили, растревожили ее, но что сделано, то сделано, была в ее решении и какая-то своя правота и справедливость, и хотя тяжко ей досталось, она всегда знала, что и раньше, и теперь права.
— Ехать надо, Ефросинья Павловна, — вздохнул Брюханов, поднимаясь из-за стола.
— Может, переночуешь? — предложила Ефросинья, возвращаясь из своего далека и сразу стряхивая с себя все отжитое и уже ненужное. — Ночь на дворе…
— Что делать, мне к утру необходимо поспеть в Холмск…
— Поезжай, коли надо, — согласилась она. — Вот что я хотела спросить, Тихон Иванович, хоть, может, и не моего ума дело… Можно спросить-то?
— Отчего ж нельзя? — В голосе Брюханова прозвучало некоторое не вполне искреннее удивление, но Ефросинья не приняла его, прямо и открыто глянула в лицо Брюханова.
— Гляжу я, с Аленкой-то вы давно вроде, а ребенка все нету. Непорядок получается, я уж Аленке сколь раз говорила, да она все отшучивается. Ты постарше-то, Тихон Иванович, сам знаешь, ребенок — он слабая искорка, да в жизни железной цепью окует тебя кругом, не разорвешь. Какая семья без ребенка?
— Складывается, Ефросинья Павловна, именно так пока, по-другому пока не получается, — сказал Брюханов неопределенно, досадуя, что задержался с отъездом. — Закончит наша Алена Захаровна институт… теперь уже недолго, Ты лучше расскажи, как у вас в селе, как народ?
— Э-э, Тихон Иванович! — Ефросинья горько махнула рукой, опустила глаза. — Нашел о чем спрашивать… У меня вон дом поставили, корова на двоих, и то молока не вижу… по детишкам, по больным расходится… Тот просит, другой просит, не откажешь. Все одно стыдно перед людьми… половина села еще из землянок не вылезла, на трудодни после немца вот уж который год одно угощение — шиш с маком…
— Тебе, Ефросинья Павловна, стыдиться нечего, — заметил как-то сразу постаревший Брюханов.
В ответ на это Ефросинья лишь зябко поправила накинутый на плечи платок, слегка усмехнулась, тем самым как бы показывая, что все он и без ее рассказа понимает, но долго не удержалась.
— Председатели меняются, как лапти… Перед посевной опять нового привезли. Господи, и где вы только таких дураков находите? — спросила она неожиданно и опять безнадежно махнула рукой. — Стешка-то Бобок от колхозной кладовки недалеко живет, там, у кладовки-то, всегда зернеца натрушено, ну а Стешкины-то куры… и курей-то шесть штук, туда зачастили. Оно хоть курица птица неразумная, а есть и ей надо. Так он первым делом, председатель-то наш новый, курей у ней пострелял… Такой уж хорек скопидомистый, приказал с колхозной фермы курей пригонять, зерно-то у кладовки подбирать, словно Стешка с детьми с какого другого государства пожаловала. Смех и грех… их гонют, а они не идут… Вот так и живем.