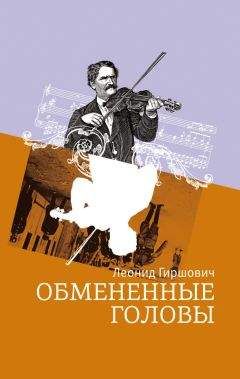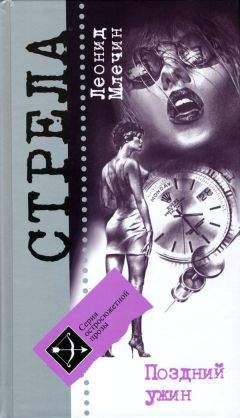Примо Леви - Периодическая система
Нас немного побили, предупредили, чтобы мы не делали «глупостей», пообещали допросить так, что мы им, «как миленькие», все расскажем, а затем сразу же расстрелять, после чего, окружив со всех сторон, с большой помпой повели к горному перевалу. Я был рад, что во время этого перехода, продолжавшегося несколько часов, успел сделать два важных дела: съесть по кусочкам свое слишком уж фальшивое удостоверение личности (фотография там была просто отвратительная) и, сделав вид, что споткнулся, выронить из кармана в снег записную книжку, полную адресов. Солдаты распевали героические военные песни, стреляли из автоматов по зайцам, бросали в горный ручей гранаты, чтобы оглушить форель. Внизу в долине стояло много автобусов. Нас отделили друг от друга; солдатам, которые сидели и стояли вокруг, не было до нас никакого дела: они продолжали горланить свои песни. Совсем близко спиной ко мне стоял солдат, и у него за поясом была ручная граната – немецкая, с деревянной ручкой, из тех, что взрываются через определенное время после того, как из предохранителя вынуть чеку. Я мог дернуть за шнурок и погибнуть, умертвив заодно и нескольких солдат, но у меня не хватило духу. Нас отвезли в казарму на окраине Аосты. Фашистского центуриона звали Фосса[39], но, как это ни странно и даже ни трагикомично, учитывая тогдашнее положение дел, как раз он давно уже лежит в могиле на заброшенном военном кладбище, а я, живой и невредимый, пишу эту историю. Нам повезло, что Фосса был законопослушным исполнителем и строго следовал предписаниям по содержанию заключенных, поэтому, изолировав друг от друга, нас поместили в одиночные подвальные камеры с койкой и парашей; кормили обедом в одиннадцать, давали час подышать воздухом. Запрет общаться друг с другом был мучительным, потому что каждый из нас хранил в сердце ужасную тайну, которая, поразив нас за несколько дней до ареста, его, в сущности, ускорила: мы чувствовали свою обреченность, и это лишало нас воли к сопротивлению, даже к жизни; мы были растеряны, раздавлены, мы мечтали лишь о том, чтобы со всем этим скорее было покончено, чтобы с нами было покончено, но при этом нам хотелось разговаривать друг с другом, поддерживать друг друга, помогать друг другу справляться с тяжелыми мыслями. Нам конец, это ясно; мы попали в западню, каждый в свою, на свободу нам не выбраться. Хотя в романах, которые я совсем еще недавно глотал один за другим, описывались чудесные способы побегов, я, обследовав камеру пядь за пядью, очень скоро убедился, что убежать из нее невозможно: стены здесь толщиной в полметра, массивная дверь охраняется снаружи, на маленьком окошке решетки. У меня была пилка для ногтей, я мог бы перепилить одну решетку, даже, может быть, все и вылезти наружу, но окошко упиралось в толстую бетонную плиту, положенную специально, чтобы предохранить стекла от взрывной волны во время бомбардировок.
Нас вызывали на допросы. Хорошо, когда допрос вел сам Фосса – образцовый фашист, прямо-таки эталонный экземпляр, таких в обычной жизни не встретишь. Недалекий и бесстрашный, он воевал в Африке и в Испании (чем перед нами хвалился), но ратное ремесло хоть и оболванило его, но не ожесточило, не превратило в злобное животное. Ему вдолбили, что в крахе фашизма виноваты только двое – король и Галеаццо Чиано[40], который как раз в те дни был расстрелян в Вероне, и он свято в это верил. Бадольо – нет, не виноват, он солдат, как и Фоссо, он присягал королю и обязан сохранять верность присяге. И если бы не король и не Чиано, которые с самого начала были против вступления в войну, все сложилось бы иначе, Италия бы победила. Меня он считал легкомысленным, сбившимся с пути под дурным влиянием товарищей. Его классовое сознание не могло допустить даже мысли, что человек образованный, с университетским дипломом может быть подрывным элементом. Допрашивал он меня от нечего делать, стараясь поднять мой идеологический уровень и одновременно придать весу себе, но без инквизиторских замашек: он солдат, а не сбир. Ни разу он не поставил меня своим вопросом в затруднительное положение, ни разу не спросил, еврей ли я.
Другими были допросы Каньи, их я боялся. Это Каньи выследил нас, по его милости нас арестовали. Он был предателем каждой клеткой своего тела, предателем не по фашистским убеждениям или в силу личной заинтересованности, а по натуре, по зову сердца, из вредности, из спортивного интереса, из садизма, как тот, кто стреляет на охоте в диких птиц только для того, чтобы проверить свою меткость. Ловкач и хитрец, он с помощью внушающих доверие рекомендаций проник в соседний с нами партизанский отряд, выдал якобы важные военные секреты немцев, оказавшиеся на деле фальшивками, сфабрикованными гестапо, усилил (якобы) охрану отряда, предложил поупражняться в стрельбе (рассчитывая, что при этом будет израсходована большая часть боеприпасов), потом сбежал в долину и появился снова уже во главе фашистской центурии, которая стала прочесывать местность. У него было бледное, рыхлое лицо, возраст – около тридцати; он садился за стол и первым делом клал на письменный стол свой парабеллум, потом начинал допрос, который мог продолжаться несколько часов без перерыва. Он хотел знать все и постоянно грозил пытками и расстрелом, но я, к счастью, почти ничего и никого не знал, а тех немногих, кого знал, не назвал ему. Моменты фальшивого сочувствия чередовались со вспышками гнева, тоже фальшивого. Мне он сказал (возможно, блефуя), что знает, что я еврей, но что для меня это лучше. Я должен решить: еврей я или партизан. Если партизан – меня поставят к стенке; если еврей – отправят в сборный лагерь, есть такой в Карпи, они там не такие кровожадные, можно продержаться до окончательной победы. Я решил назваться евреем; частично изза усталости, частично, из какого-то необъяснимого гордого упрямства, хотя ему не поверил: разве не он сам сказал, что уже через несколько дней командование этой казармой перейдет в руки эсэсовцев?
В моей камере была одна тусклая лампочка, которая не выключалась ни днем, ни ночью. Читать при ее свете можно было с трудом, но я читал, много читал, потому что боялся, что у меня осталось мало времени. На четвертый день, когда меня вывели на часовую прогулку, я незаметно положил в карман большой камень, чтобы попытаться установить связь с Гвидо и Альдо, чьи камеры находились справа и слева от моей. Целый час я, как заживо погребенные рудокопы в романе Золя «Жерминаль», выстукивал условным стуком всего одну фразу, а потом прижал к стене ухо в надежде получить ответ, но вместо него услышал лишь бодрые песни, которые орали солдаты в столовой над нашими головами.
Еще у меня в камере жила мышь. Днем она составляла мне компанию, а ночью лакомилась моим хлебом. Одну из двух имевшихся в камере походных кроватей я сложил, поставил вертикально и на ночь убирал свой хлеб на самый верх, не забывая отщипнуть и оставить на полу несколько крошек для мыши. Мое положение было не лучше, чем ее, может быть, даже хуже. Я представлял себе лесные дороги, снег, безразличные ко всему горы, множество прекрасных дел, которыми, если бы был сейчас на свободе, мог бы заняться, и к горлу подступал комок.
Было очень холодно. Я постучал в дверь. Появился солдат, исполнявший обязанности надзирателя, и я сказал ему, что хотел бы поговорить с Фоссой. Этот солдат ударил меня при аресте, но, когда узнал, что я образованный, извинился: «Простите, доктор, Италия – странная страна». Отвести меня к Фоссе он отказался, но принес для нас троих по одеялу и разрешил греться каждый вечер перед отбоем по полчаса в котельной.
В тот же вечер он пришел за мной, причем не один: с ним был другой заключенный, о существовании которого я и не подозревал. Жаль! Если бы он привел Гвидо или Альдо, было бы намного лучше, но все равно это было живое существо, с которым можно было перекинуться парой слов. Солдат отвел нас в закопченную котельную с низким потолком, большую часть которой занимал сам котел. Зато здесь было тепло! Солдат велел нам сесть на лавку, а сам устроился на стуле в дверях с автоматом между колен, заблокировав таким образом выход, и уже через несколько минут потерял к нам интерес и начал дремать.
Заключенный смотрел на меня с любопытством.
– Это вы, что ли, повстанцы? – спросил он меня.
Он был лет тридцати пяти, худой, сутулый, с вьющимися давно не чесанными волосами, отросшей щетиной, большим крючковатым носом, тонкими губами и бегающими глазами. Его руки, узловатые, непропорционально большие, обветренные и словно обожженные солнцем, все время беспокойно двигались: то скребли одна другую, то гладили, как при умывании, то барабанили пальцами по лавке или по ноге; я заметил, что они слегка дрожат. Он него попахивало вином, из чего я заключил, что арестовали его совсем недавно. Говорил он с типичным для этих мест акцентом, хотя на крестьянина похож не был. Я отвечал на его вопросы уклончиво, но его это не смущало.