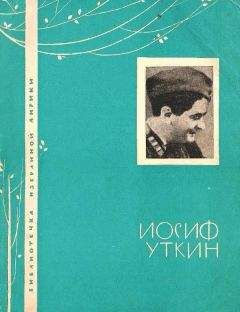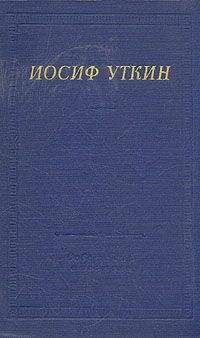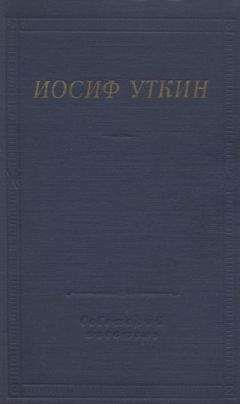Денис Драгунский - Архитектор и монах.
Убей Бог, не помню. Чтоб сам Набоков ко мне приезжал — нет, не помню.
Хотя, если он вошел в полумраке, склонив голову и надев очки… Может быть. Тем более что я вообще плохо помнил, как он выглядит, несколько газетных снимков. Не знаю. Впрочем, какие у меня основания не верить? Он сказал, я поверил, замечательно.
Итак, продолжал свой рассказ Вячеслав, господин обер-прокурор сказал, что Владимир Дмитриевич очень, просто очень огорчится. Когда они с ним обсуждали предстоящее молебствие, Владимир Дмитриевич сказал: «Ах, как хорошо было бы, если бы посреди всех сияющих золотом риз высшего духовенства сияла бы скромной чернотою ряса знаменитого молитвенника старца Иосифа из Матвеевского скита»…
Экий, однако, ценитель изящного, наш уважаемый Владимир Дмитриевич! Недаром его сын стал известным писателем, мастером стиля. Видно воспитание! — это я не удержался и сказал Вячеславу.
Вячеслав улыбнулся и сказал, что читывал, читывал.
Но это мы говорили уже потом, когда он возвратился в Москву.
А тогда, продолжал Вячеслав, господин обер-прокурор снял трубку с белого телефона без диска — у него на столе стояли три телефона, два черных с дисками и один белый, где вместо диска был двуглавый российский орел, республиканский — без короны и имперских клейнодов. Орел, держащий в лапах древко знамени, трехцветная лента которого окружала все изображение. Шла по краю этой круглой нашлепки, которая была вместо телефонного диска. Посерьезнев, Федор Августович держал молчащую трубку, чуть отставив ее от своего крупного красивого уха; прошло не менее полуминуты, потом в трубке щелкнуло, и гадкий деревянный голос сказал: «Подождите!». Федор Августович — и Вячеслав с ним вместе — ждали. Прошло еще минуты две. Наконец тот же голос сказал: «Соединяю» — и тут же другой голос, красивый и обаятельный: «Да, мой дорогой!». Федор Августович сказал, что старец Иосиф из Матвеевского скита, вы помните? «Да, да, да, мой дорогой!» Так вот, старец Иосиф прислал некую записку… И он ее прочитал в телефон. В трубке молчали. Федор Августович кашлянул и сказал: «Можно принять к нему меры церковной дисциплины…». В трубке снова было молчание, потом красивый и обаятельный голос произнес устало: «Не трогайте этого блаженного». В трубке щелкнуло, гадкий деревянный голос сказал: «Разъединяю».
Добрейший Федор Августович сказал: «Ну вот, видите, обошлось. Езжайте с богом, кланяйтесь отцу Иосифу».
Записку мою, однако, подшил к делу.
Поэтому меня в сорок пятом году вытащили из Иосифова Матвеевского скита, произвели в епископы, а потом сделали митрополитом Екатеринодарским и Кавказским. Потому что оказалось, я — «один из немногих авторитетных клириков, кто не запятнал себя сотрудничеством с империалистами». Кстати, патриарха выбирать не стали, оставили Синод и обер-прокурора.
Мы помолчали.
— Ты очень хитрый, — вдруг сказал Дофин.
— Нет, — сказал я. — Что ты! Это судьба. То есть Ангел.
10. Война
«Он очень хитрый, хоть и святой отец», — подумал я, и мне показалось, что нехорошо скрывать такую мысль в откровенном разговоре, и я сказал вслух:
— Ты очень хитрый.
— Нет, — сказал он. — Что ты! Это судьба. То есть Ангел.
— Кстати, — сказал я. — Про статью Литвинова. «Родина русских», газета «Известия», июнь тридцать восьмого. Она возмутила всех. В Германии все всё поняли. Но договор о дружбе смешал карты. И особенно пакт о Польше и Прибалтике. Кажется, наш Тельман на время поверил…
— Ваш Тельман, вот! — тут же перебил меня Джузеппе.
— Наш, наш, — я покивал головой. — А чей же? Никуда от этого не денешься, увы… Да. Так вот, даже наш Тельман на какое-то время поверил, что Россия не собирается воевать. Почти все в это верили. От обывателя до военной разведки. Краткий смешной миг — имперская буржуазная Россия вдруг стала лучшим другом коммунистической Германии.
Но Тельман, как к нему ни относись, человек весьма неглупый. Решительный человек. Ему хватило ума и воли переломить свою политику. Особенно после речи Набокова перед кадетами. Помнишь?
— Не помню, — сказал Джузеппе. — Я не кадет, как видишь. В обоих смыслах слова. Я не курсант военного училища, и я не член Ка-Де-партии.
— Если тебе неприятен этот разговор, давай прекратим, — сказал я. — Мы слишком давно не виделись.
— Отчего же, — сказал он. — Разговор как разговор.
— Эта речь не публиковалась. Ни у вас, ни у нас. Секретная речь. Смешно. Как речь может быть секретной, если она произнесена перед двумя тысячами кадетов и сотней генералов? Изложение этой речи лежало на столе у Тельмана тем же вечером. А через два дня он уже встречался в Женеве с Черчиллем и представителем Рузвельта, забыл фамилию. И заодно с послами Аргентины и Мексики. Он решил создать Большой Атлантический Союз.
— Дофин, — спросил Джузеппе. — Ты патриот?
— Ни капельки, — сказал я. — Хотя, конечно, это сложный вопрос. Я немец. Хотя по паспорту я австриец. Но я считаю, что нет никаких австрийцев, есть единый немецкий народ. Я патриот своего народа. Своей культуры. Своей земли. Но мой патриотизм никак не относится к товарищу Тельману и другим товарищам.
Я слегка понизил голос, потому что в кафе никого, кроме нас, не было, а официант все время ходил из угла в угол — то стол протрет, то скатерть встряхнет и заново расстелет.
— Что ж ты тогда в таком восторге от Тельмана? — спросил Джузеппе.
— Я? В восторге? — удивился я.
Хотя да, он прав, я как-то слишком увлекся. Должно быть, любая власть обаятельна, даже когда ее ненавидишь; наверное, когда ненавидишь, она еще обаятельнее.
— Считай, что я рассказываю исторический анекдот, — сказал я. — Но самый главный анекдот начался потом. Рузвельт, видишь ли, очень прислушивался к мнению американского конгресса; демократия, страшное дело. Американский конгресс, как ты помнишь, не признавал аннексии Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. То есть не признавал Пражских соглашений, по которым эти страны отходили к России. Или, как тогда выражались, были возвращены России. Было принято говорить так. Разве не помнишь?
— Не помню, — сказал Джузеппе.
— Но это действительно так! — сказал я.
— Верю, верю, — сказал он.
— Послушай, — и я в первый, наверное, раз за весь разговор — а может, вообще в первый раз за все время — положил ладонь на его руку и погладил его пальцы. — Послушай, Джузеппе, я вижу, что тебе это неприятно слушать. Хватит, а? Ну, что за разговор двух ветеранов, честное слово, как в политической передаче по радио для юных историков войны…
— Говори, — сказал он. — Говори, пожалуйста. Тем более что я на самом деле ничего этого не знаю. Почти ничего. Все это летело мимо меня. Почти не задевая. Я молился Богу, выслушивал исповедующихся и немного занимался монастырскими и епархиальными делами… Рассказывай, мне интересно.
— Хорошо, — сказал я, не убирая руку. — Итак. Конечно, Тельман заявил, что договор с Россией будет соблюдаться. Но! Американцы, я же говорю. Рузвельт все время зудел о независимости Польши и малых балтийских стран. Которые уже два года как отданы России. Понятно?
— Не очень, — сказал Джузеппе.
— А вот то-то и оно, — сказал я. — Допустим, Набоков в самом деле готовился к войне. Но Тельман его спровоцировал, я это готов признать.
— Зачем? — спросил он.
— Зачем спровоцировал? Трудно сказать.
— Да нет, — сказал он. — Зачем ты готов это признать? Ты, наверное, хотел мне приятное сделать?
— Нет, — сказал я. — Я просто считаю так. Да, войну начали русские, это факт. Но спровоцировали ее немцы. А может быть, русские на самом деле не собирались воевать. Скорее всего, они просто давили. Пугали. Ведь отдали же им Польшу и балтийские страны? Может, они хотели еще надавить, еще припугнуть, и получить Болгарию. Ну, и старую русскую мечту исполнить, сон Милюкова. Проливы, проливы! Хотя бы северный берег Босфора! Святую Софию!.. Вот так примерно мне кажется. А Тельман в ответ на это стал собирать военный союз. А тут американцы с Прибалтикой…
Он закашлялся.
— А ты как считаешь? — спросил я.
— Мне все равно, — сказал он.
— Ну, извини, — сказал я и перестал поглаживать его узловатые старческие пальцы. Потом отодвинул руку на полсантиметра.
Он поймал мою ладонь, положил свою руку сверху.
— Рассказывай, рассказывай. Я ведь на самом деле почти ничего не знаю. Ничего, кроме официальной версии… Как-то пропустил все, — он улыбнулся кривой и даже отчасти жалобной улыбкой. — А вернее, отворачивался. Мне было стыдно, и я в ту сторону вообще не смотрел. Старался не смотреть. Ну, что там дальше было?
— Что было? То, что всегда бывает. Мы недооценили власть; мы — то есть интеллигенция. Фрондеры, диссентеры и критики. Которые не смогли эмигрировать или уйти в подполье. Конечно, ты их презираешь. То есть нас. Ты ведь бывший революционер, подпольщик, эмигрант, даже террорист, верно?