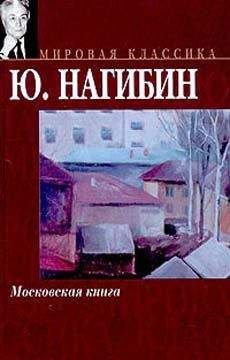Юрий Арабов - Орлеан
— Она в конуре, — сказал он, раскусывая орех.
— Не понял.
— Моя мама теперь в конуре живет, — объяснил мальчик.
Рудольф Валентинович пожал плечами, потому что был ко всему готов. Спустился с крыльца и, осторожно подойдя к будке, постучал по крыше кулаком. Собака, стоявшая рядом, перестала лаять и тоскливо посмотрела в глаза хирурга.
— Оставьте меня, ради бога, в покое! — раздался из конуры истеричный голос не слишком дорогого человека.
— Это ты, что ли, Лид?.. — пробормотал Рудольф как можно более удивленно.
Наклонился и заглянул в круглое отверстие. Там в темноте он заметил скрюченную фигуру, которая лежала на боку, поджав острые колени.
— И как тебе здесь… не дует? — нашел он с трудом подходящие слова.
Рудольф Валентинович имел в виду, конечно же, погоду, которая с каждым часом наливалась гневом и грозилась жахнуть кулаком по столу.
— Шел бы ты отсюда, — сказала ему душевно Лидка. — Ни видеть, ни слышать тебя не могу.
— И я себя тоже, — согласился с нею Рудольф.
Он сел на землю и прислонил спину к деревянной будке. Шавочка подлезла к нему и начала униженно лизать правую руку.
— По-моему, мы раскисли, — пробормотал Белецкий задумчиво. — Ты не находишь?
— Это ты раскис. А я раскисать не собираюсь, — злобно сказала ему Лидка.
— Тогда отчего ты сидишь здесь? — не понял он. — Буря поднимается, доллар опускается, экономика стабилизируется, кризис углубляется, и все пьют чай по своим домам. Одни мы с тобой на улице, как собаки… Почему?
Лидка на это только громко засопела и ничего ответить не смогла.
— А я тебе скажу почему, — упрямо продолжил Рудик. — Потому что с этим поганым экзекутором, царствие ему небесное, нам жилось легче. Нам было с кем бороться и кому противостоять. Это нас держало в седле, мы скакали по прериям, помогали набожным колонистам, дружили с шерифом и гнали индейцев-язычников за границы каньона, разве не так?..
— Он был таким же засранцем-аристократом, как и ты, — раздалось из будки. — Даже хуже.
— Возможно, — согласился Рудик. — Но я тебе признаюсь… Без него стало скучно… Мне его не жалко, — одернул он сам себя. — Жалость унижает свободного человека. Я просто слегка заскучал.
— Так развеселись, — выдохнула она. — Езжай на городскую свалку. Собери его по кускам и похорони как человека…
— А что это даст? — возразил хирург. — У тебя есть какой-нибудь знакомый Христос?.. У меня тоже. Мертвого не воскресить. Но я бы взбодрился, — добавил он после паузы. — Я бы многое отдал за то, чтоб он снова был с нами…
— Уйди отсюда, черт поганый! — заорала Лидка истошно. — Пошел вон!
— Все. Ухожу. Успокойся… Уже ушел. — Он встал с земли. Отряхнул шорты.
Снова поднялся на крыльцо дома и постучал в запертую дверь.
— Ты где? — Он имел в виду маленького Лешу.
— Здесь я, — откликнулся мальчик, не открывая.
— Еще конфету хочешь? — предложил ему Рудик. — С косточкой.
— Не-а…
— Ну и ладно. Мне больше останется.
Пошел через двор к калитке. Но, проходя мимо конуры, не удержался и пнул ее ногой. Из нее послышалось сдавленное рычание Лидии Павловны.
4…А ночью над озером вышла мутная Луна. Дул сильный ветер, и подвешенная в небе планета была слепой. Люди от ее света чувствовали себя привидениями, не находящими места и не способными совершить осмысленный поступок.
Дверь Лидкиного дома заскрипела, открывшись. И маленький Леша, выйдя во двор, тихонько подошел к собачьей конуре:
— Мама! Ты спишь, что ли?
— Чего тебе? — спросила Лидка недовольно.
— Мой папа пришел, — сообщил ей сын.
— Какой еще папа? У тебя нет папы!
— Он в доме сидит. За столом.
— Чего ты придумываешь? — сказала она недовольно. — Это семейный стол, и отцу там не место.
— А все-таки он сидит, — настойчиво повторил Леша.
Мать выглянула наружу. Была она растрепанной, с соломой в волосах и с мешками под глазами. В целом она выглядела прекрасно.
— Он блондин или брюнет? — заинтересованно спросила Лидия Павловна, потому что Лешкиного отца в точности не знала.
— Он — бледный, — пояснил малыш.
Лидка с трудом вылезла из конуры. Отряхнулась. Расправила смятую юбку и подобрала заколкой свалявшиеся волосы.
Сын взял маму за руку и нежно повел в дом.
За пустым деревянным столом сидел мертвый экзекутор. Чувствовалось, что он был перепилен в нескольких местах, потому что на костюмчике его зияли поперечные дыры, наскоро заделанные грубыми нитками. Усики были прилизаны, но на голове торчал хохолок, доказывающий, что бриолина на макушку как раз и не хватило. Но все-таки он был циничен. Циничен и красив, пусть и не совсем целый. Он затягивался дымом кубинской сигары, но дым выходил обратно не через рот, а через швы на туловище, потому что герметичность тела была сильно нарушена.
Он встал, когда в горницу вошла хозяйка, сдержанно улыбнулся, как улыбается аристократ, и глаза его налились сладостью Кларка Гейбла, которого Лидка любила и ненавидела одновременно. Она понимала, конечно, что они не могут быть вместе, потому что гость стоит на высоте социальной лестницы, а она — всего лишь мастер парикмахерского дела, пробившая стену социума упорным трудом и незаслуженно низкими чаевыми со стороны клиентов. Но все-таки она любила этого мерзавца, любила и ничего с этим поделать не могла.
Мальчик подвел Лидию Павловну к своему отцу, вложил ее горячую руку в снежные руки вечернего гостя и счастливо улыбнулся. Он чувствовал, что семья его воссоединилась, и теперь он находится под защитой.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
Рудольф Валентинович тщательно мыл ногти. Чистил их специальной щеткой, потом хищно царапал хозяйственное мыло и опять запускал под ногти щетку. Смывал мыло водой.
Вытер руки вафельным полотенцем со сливочным запахом. Надел резиновые перчатки.
Внезапно в зеркале он увидел два отражения: мужское и женское. Кто-то бесшумно вошел в ординаторскую, пока он был занят.
Белецкий оглянулся.
Некоторое время все трое молча разглядывали друг друга. Лидка казалась поведенной, как человек, уехавший в Питер и покушавший там местных грибов. Она силилась что-то объяснить, напомнить, сказать, а другой… Другой был — как всегда.
Рудик почему-то не ощутил леденящего ужаса происшедшего, ибо порог вменяемости был им давно пройден. Он только зафиксировал в своем сознании, что из крана льется вода — он забыл ее закрыть, когда чистил ногти.
— Вот что я тебе расскажу, мой дорогой, — обратился к нему экзекутор, оглаживая правой рукою свою хемингуэевскую бородку. — Вокруг тяжело больного сидят его родичи. «Узнаешь ли ты меня? Узнаешь ли ты меня?» — вопрошают они. «Узнаю, — отвечает он. — А вы меня узнаете?» — «Нет, настолько болезнь тебя изменила». — «А я узнаю вас всех, значит я — здоровее вас». — Экзекутор засмеялся. — Ну здравствуй, здравствуй, мой славный мачо!.. — Раскинул руки, готовый к братским объятиям.
— Нет, — пробормотал вдруг Рудольф Валентинович. — Не стоит.
Он отстранился, сделав шаг назад и почти прижавшись халатом к стене.
— Почему? — не понял экзекутор. — Ты же сам этого хотел!
— Нет, — повторил Рудик. — Я ошибся.
Подошел к холодильнику, достал оттуда поминальную свечу, которая давеча горела у него, и запалил фитиль зажигалкой.
— Что это ты задумал, мой милый?.. — приязненно, с теплотой осведомился у него человек с лицом Хэмингуэя. — Ты что думаешь, будто я испугаюсь какой-то заштатной свечки? Уж если я пилы не испугался, то что мне твой суеверный огонь? Даже и не думай. Я теперь никуда не уйду, коли ты меня сам позвал. Я буду вечно с тобой. Ассистировать, когда ты производишь операции, вместе завтракать, вместе обедать, вместе сидеть на унитазе, вместе лежать в кровати со случайной женщиной и вообще быть вместе всегда и везде…
Рудик же, не слушая, капнул расплавленным воском на стол и начал скатывать его в мягкие шары…
— …А все для чего? — продолжал вещать экзекутор. — Почему я должен быть с тобой рядом и лежать в кровати со случайной женщиной? Чтобы уличить тебя в твоих преступлениях. Чтобы ты ни секунды не знал покоя, чтобы лез на стену от непереносимой муки, расцарапывал щеки в кровь нечищеными ногтями, харкал розовой слизью, плакал сухими слезами и бил поклоны о равнодушный холодный пол…
Рудольф Валентинович засунул восковой шар в правое ухо. Слегка подработал и подмял пальцами, чтобы он принял форму ушной раковины. Потом сделал то же самое и с левым ухом.
…Мир перед ним погрузился в относительную тишину. То есть со стороны экзекутора слышалось какое-то шуршание, напоминавшее звук однообразного прибоя, но значения слов разобрать было нельзя.