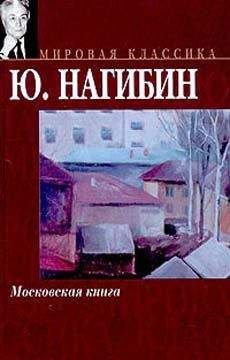Юрий Арабов - Орлеан
— Рядовых тружеников у нас нет, — сказал Мошкарев. — Завод давно закрыт.
Неволин тускло взглянул на него с видом инженера Гарина, испытавшего только что свой гиперболоид. Он не любил, когда всякая бледная моль в лейтенантских погонах лезла ему под руку, сбивала с мысли, оскорбляла внутренний гуманизм и сводила прекрасные порывы на нет.
— Я и сам знаю, что все закрыто, — терпеливо объяснил дознаватель. — Но я ведь не об этом. Вот ты, положим, родишь, Наташа, от какого-нибудь честного мужчины…
— Чего? — не поняла она.
— Ребенка, — уточнил Василий Карлович, чтобы не было сомнений. — А душа твоя будет отягощена воровством. Как ты будешь сказки ему рассказывать, своему дитяте? Как в глаза посмотришь, как по головке погладишь?
— Для ребенка мужик нужен, — с отвращением напомнила Маркитантова, — а не козел в ментуре.
— А разве у тебя нет козла? — терпеливо продолжил допрос Василий Карлович. — Сколько у тебя их было, этих козлов-мужиков? Пальцев на обеих руках хватит, чтоб пересчитать?..
Наташка молчала, прислушиваясь к мыслям в горячем сердце. Потом зачем-то растопырила руки и подняла ноги, пытаясь растопырить пальцы на ступнях.
— Всего двадцать? — сосчитал Неволин. — Точнее, девятнадцать, потому что два пальца на ноге у тебя сросшиеся… Мало. Ты почти девственница.
Ноги ее были обуты в китайские босоножки из почти натуральной кожи, так что сосчитать предполагаемых кавалеров было делом примитивно арифметическим.
— Да не в этом дело, — сказал Мошкарев. — Последний в реанимации лежит. И случилось это именно в тот вечер, когда Маркитантова принесла с завода свои чушки.
— Что же случилось в тот романтический вечер? — поинтересовался дознаватель.
— Был нанесен удар по голове сожителя каким-то тупым предметом. Предположительно, чушкой или сковородкой.
— С тефлоновым покрытием? — уточнил Неволин.
Наташка, услышав неприличное словосочетание, только передернула плечами и оттопырила нижнюю губу.
— Чугунной лупила. Наотмашь. А тефлоновой у нее отродясь не бывало, — сообщил Мошкарев.
— И это все? — осведомился Василий Карлович, испытав внезапно смертельную скуку.
— Почти.
— Что еще?
— После этого она принесла фекалии из нужника и обмазала ими холодильник.
— Снаружи?
— Изнутри.
Василий Карлович задумчиво забарабанил пальцами по столу. Поглядел на голую стену и пожалел про себя, что уничтожил портрет Фейербаха.
— Ну это уже родовое, — сказал он. — Не видишь, у нее же вырождение написано на лице.
— Чего? — не поняла Наташка. — Чего говорите, не пойму…
— Мать и отец гуляли? — спросил он кротко.
— Какой отец? Вы чего?..
— Вот-вот. И я об этом. Все. Садись в мое кресло!
Неволин порывисто встал и одернул на спине мятый пиджак.
— Ты что, не слышала? — переспросил он грозно. — Садись в мое кресло, говорю! Руководить будешь!
У Мошкарева от удивления отвисла челюсть. А Неволин насильно посадил Наташку за свой рабочий стол, вдавив в кресло, так что кости ее затрещали.
— Рабочий день с восьми тридцати до семнадцати тридцати. А когда на дознание выезжать, то много больше. Но ты умная, потянешь. Зарплата хорошая. Двенадцать тысяч включая надбавки. И помни о любви. О любви к подследственному. У нас — презумпция виновности в рабочие дни, а в выходные — презумпция невиновности. При такой жизни любой виновный может быть невиновным и наоборот. Уважай человека в себе. Слушай полонез Дзержинского в своем сердце…
— Огинского, — подсказал Мошкарев.
— Чистые руки, горячее сердце, холодная голова… — докончил Неволин, игнорируя его реплику. — Всем вам нужна любовь, дайте миру шанс…
Во время его филиппики глаза Наташки Маркитантовой все более округлялись. Но когда она услышала о полонезе Дзержинского, то нервы ее сдали и она заплакала навзрыд.
— Пойдем отсюда, Мошкарев. Пусть она руководит, а нам здесь не место.
Василий Карлович вышел в коридор и, пропустив вперед лейтенанта, на всякий случай запер дверь своего кабинета на два поворота ключа.
— Зачем? — осведомился Мошкарев потрясенно.
— А затем, чтоб не сбежала. До конца рабочего дня еще два часа. Пусть сидит и вникает в суть дела…
Дознаватель заложил руки за спину, как ходят заключенные.
Направился через стеклянный коридор в пристройку, где располагались камеры предварительного заключения, сутулясь и опустив голову к земле. Плитки под его ногами были свежевымытыми, так что по ним было обидно идти. Но Василий Карлович нашел выход: он наступал только на черные, словно играл в шашки, а на белые не наступал.
Через пять минут он уткнулся лбом в железную мятую дверь.
— Открывай, что ли, Мошкарев.
Тот, все более удивляясь, отворил засов.
Неволин вошел в камеру, огляделся, глубоко вдохнул спертый воздух, потому что это был теперь его родной дом и следовало приручать его к себе, как собаку, — вот эти выщербленные стены должны полюбить его голову, когда он будет об них биться, а жесткие нары должны приспособиться к его сухопарому телу и принять его очертания, потому что сколько он будет лежать на них — неизвестно…
— Когда здесь обед?
— Обед уже прошел, — ответил Мошкарев. — Остался один кипяток.
— Будешь носить баланду, как другим… Не жиже и не гуще. Понял?
Лейтенант кивнул.
— А теперь исчезни!..
Мошкарев хотел что-то возразить, но, не найдя нужных слов, отдал честь — как старшему по чину. Выйдя, закрыл за собою дверь и произвел тяжелый грохот тупого металла, который отнимал последнюю надежду у сильных духом, но укреплял в вере тех, кто духа не имел и ни на что не надеялся. А Василий Карлович был, скорее, из вторых, нежели из первых.
Дознаватель некоторое время сидел неподвижно, подперев подбородок рукой и смотря в окно, забранное решеткой. Потом набрал номер на мобильном телефоне.
— Неволин на связи. Меня наконец-то посадили.
— За что? — спокойно спросил напарник на другом конце спутниковой связи, нисколько не удивившись.
— Навет, — ушел от подробностей Василий Карлович. — Лет через пять разберутся и выпустят. Что с делом Мошиаха? Наблюдаешь?
— Наблюдаю. Но все без толку. В ваше кресло никто не садится.
В другое бы время дознаватель полез на стену, оттого что все усилия идут прахом. Но сейчас была другая ситуация, не предполагавшая подвигов человека-паука.
— И черт с вами со всеми, — пробормотал Неволин, отключив телефонную связь.
Снова поглядел на решетки.
Повинуясь безотчетному чувству, пошарил рукою внизу у пола и довольно быстро обнаружил там примитивный тайник.
Достал из него самодельную колоду рукописных карт. Начал с интересом раскладывать их перед собой: десятка — налево, дама — направо. Туз, валет, король…
2— …Рудольф Валентинович! — Медсестра-ветеринар потрясла его толстую холку, как трясла бы буйвола.
— Что? — не понял он.
— Биологический материал готов к операции.
Ее низкий голос доносился до хирурга, словно сквозь толщу воды. Он накрыл голову клетчатым пледом и, лежа на диване, дышал через рот, потому что нос его вспух изнутри и почти не пропускал в себя воздуха. Такое с Белецким случалось и раньше: от волнения и бесполезных переживаний слизистая оболочка носа отекала и он жил как будто в противогазе — с искаженным голосом насмерть простуженного доходяги и слезящимися глазами плакальщика на собственных похоронах. Рядом коптила толстая поминальная свеча, вдавленная в стол.
— Да, — пробормотал он, будто очнувшись от тяжелого бреда. — Помоги мне подняться.
Ветеринарша взяла его, как ребенка, за подмышки и усадила на диване. Он был перед ней в трусах и в майке, несвежий, старый и простой, как надоевший муж.
— Какой сегодня день?
— Среда. А вы опять у нас заночевали… — сочувственно сказала медсестра, подставляя ему свое плечо.
Опершись на него, он поднялся на ноги:
— Больной, говоришь, ждет?
— Больной… — повторила она озадаченно. — Но вы же сами приказали, чтобы я называла их биологическим материалом.
— Я пошутил. А ты и поверила. Какая же ты недалекая… — Он хотел сказать более грубое слово, но сдержался.
Чихнул, даже не прикрыв нос рукой. Нехотя вымыл руки в раковине и надел халат.
— А свечу гасить? — пискнула медсестра.
— Не надо. Она горит в честь дорого мне человека…
Слегка пошатываясь, направился в операционную.
На столе лежал бодрый пенсионер советских лет, еще не погруженный в общий наркоз, как многие другие, потому что не смотрел телевизор, а вместо него предпочитал ловить радио «Свобода» на приемнике «Тексан», привезенном из Москвы, с Митинского радиорынка. Щеки его, словно сито, пропускали через себя щетину, но глаза были как у ребенка, поверившего в то, что его, отведенного в детский сад, скоро оттуда заберут. Если бы он мог трезво мыслить сейчас, то сравнил бы близкую смерть с детским садом, который бывает или хорошим, или плохим, но всегда чужим, казенным и неудобным.