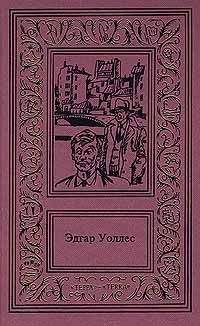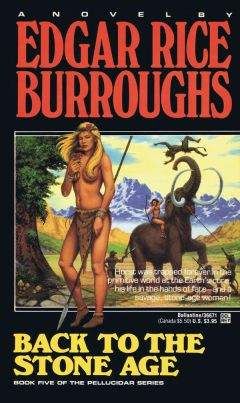Антонио Муньос Молина - Польский всадник
– Педро, осталось только нас двое да дон Меркурио. Она спросила об этом у своей матери, но Леонор Экспосито пожала плечами и ответила, что тоже не понимает этих слов – стариковские причуды. Она не любила говорить о молодости своего отца, вероятно потому, что знала о ней очень мало, но прежде всего из стыда вспоминать, что у него не было законной фамилии: новорожденным моего прадеда оставили в приюте, и он получил имя Педро по дню, когда был подобран монахинями, и две фамилии – Экспосито Экспосито – как двойное незаслуженное оскорбление, которое должно было сопровождать его, вместе с именем, до самой смерти. Этот позор вынуждена была передать своим детям во второй фамилии и моя бабушка – несмываемое пятно, как театрально говорил мой дед Мануэль, чтобы задеть ее, когда возвращался пьяный из таверны. Он бил жену и искал детей по комнатам, хлеща стены и мебель пряжкой своего ремня: огромный и озверевший до неузнаваемости, ужасный, как великаны из сказок, – таким он представлялся моей матери, когда она слышала его шаги, от которых дрожала лестница и плиточный пол в спальнях. Она пряталась, затаив дыхание, под кроватью или скатертью, затыкая уши руками и сжимая зубы, чтобы не слышать криков, ударов ремня и плача, или укрывалась рядом с дедом Педро, прикорнув у его ног вместе с безымянной собакой.
Так она и выросла, подавленная страхом и вскормленная им, постоянно боясь неизбежности несчастья и наказания, волнуемая песнями по радио и черно-белыми фотографиями красивых киноактеров, которые видела только на афишах кинотеатров, потому что впервые смогла пойти в кино лишь много лет спустя, когда была уже официально помолвлена. Но даже тогда родители заставляли ее ходить в сопровождении младших братьев, громко окликавших сестру с галерки и плевавших через трубку конопляными семенами и скорлупой в нее и ее жениха, моего отца. Братья не отставали, когда они гуляли по улице Нуэва, ни разу не взяв друг друга под руку, почти не разговаривая, скованные в своей воскресной одежде, молчаливые и неловкие, неспособные говорить друг другу слова, произносимые мужчинами и женщинами в фильмах и радиосериалах – те самые, которые он писал ей в любовных письмах, когда ухаживал за ней. Моей матери было уже шестнадцать или семнадцать лет, но в ней по-прежнему жил детский страх, к которому теперь прибавилась еще и неуверенность юности. Это была боязнь, что она ничего не заслуживает и обречена всегда откладывать свою жизнь на потом, лишенная желаний и скромных преимуществ других девушек, которых она видела раньше играющими на площади Сан-Лоренсо через занавески на окнах или приоткрытую дверь свое-го дома: теперь они выходили по воскресеньям в туфлях на каблуках, с накрашенными губами и не краснели, опустив голову, под взглядами мужчин. Она вставала до рассвета, приносила из дальнего сарая охапку дров, чтобы разжечь в очаге огонь, дрожала от страха, слыша на лестнице шаги и кашель отца, готовила ему корзинку с едой в поле, разогревала молоко для полусонных братьев, подчинявшихся отцу с молчаливым ужасом и покорившихся тому, чтобы не ходить в школу и работать до ночи с отчаянным упорством взрослых, убирая навоз из конюшни, запрягая мулов, нагружая их мотыгами и палками, навсегда одетых, как взрослые мужчины, в старые пиджаки, береты и вельветовые брюки. Моя мать зачерпывала воду из колодца, готовила кувшины, чтобы сходить к источнику до того, как там начнут толпиться женщины, ставила перед огнем стул, куда вскоре садился ее дед, встававший позже, чтобы не встречаться с зятем, и когда Педро Экспосито спускался вниз, у нее уже была готова для него чашка горячего молока и большой ломоть хлеба, который он разделял со своей собакой, кормя ее раскрошенными кусочками с ладони. Они сидели, греясь у огня, – загадочные и старые, и следили, как моя мать неустанно трудится, моя грязную посуду или подметая кухню, таская дрова для огня. Я представляю ее себе очень хрупкой, с вьющимися волосами и круглым лицом, как на фотографии, – тоненькой и энергичной, ослабленной постоянным недоеданием и тяжелой работой, с чрезмерной серьезностью, которая была во всех них с самого детства. Я вижу, как она, в парусиновых альпаргатах и повязанном на поясе переднике матери, застилает слишком высокие для ее роста кровати, вытирает пыль и выносит ночные горшки, а потом поднимает своих маленьких братьев, умывает и одевает их, чтобы они шли в школу, в то время как моя бабушка Леонор плетете неутомимой быстротой циновки из ковыля, а прадед глядит на угли очага, будто видя в них бесконечную картину своей жизни, катастроф и вспышек, неизвестность своего происхождения и тяготы, перенесенные во время войны на Кубе.
Но он никогда не говорил об этом, и, вспоминая голоса, сформировавшие мое сознание, я замечаю, что среди них отсутствует голос прадеда, и даже не могу представить, какой он был: медленный, наверное, очень мягкий, как вспоминает моя мать Прадед говорил так тихо, что его было трудно понимать, двигался очень осторожно и сидел так неподвижно в течение многих часов, что можно было забыть о его присутствии, на ступеньке возле двери, со сцепленными на коленях руками соломинкой или травинкой в зубах и отсутствующим взглядом запечатленным на фотографии Рамиро Портретиста и скрывавшим его воспоминания так же надежно, как при жизни их охраняло его молчание. Мрачные спальни в сиротском приюте, безрадостные рассветы в детстве, умывание ледяной водой, холодные руки монахинь и шорох их покрывал – более ста лет назад, во времени без следов, но тем не менее протягивающем ко мне сквозь темноту свои нити и плетущем основу моей жизни. Мужчину и женщину, усыновивших его в пять или шесть лет, прадед всегда называл своими родителями – даже после того, как кто-то пришел и сообщил ему, что если он захочет узнать свою настоящую семью, то сможет получить большое наследство и не должен будет больше работать поденщиком в поле. Я представляю выражение лица и глаз прадеда, когда он взглянул на посланного, сначала ничего не отвечая, не веря до конца его словам, а потом склонил голову набок, опустил глаза в землю, возможно так же, как на единственной его фотографии, и тихо сказал:
– Свою семью я знаю, а оставившие меня – мне никто.
Я говорю эти слова Наде, и мой голос звучит как эхо никогда не слышанного голоса прадеда Педро и матери, возможно, перенявшей эти слова от него самого или моего деда Мануэля, любителя громких фраз. Так мой голос в кабине переводчика раздается как отзвук других голосов, говорящих мне на ухо; но голос прадеда, такой далекий, не теряется и не рассеивается в пустоте и лабиринте слов, а сохраняется среди них с металлическим блеском, с жаром все еще тлеющего под золой уголька. От целой человеческой жизни осталось не только лицо на фотографии, сделанной без его ведома, и несколько тихо произнесенных слов, бесповоротно определивших его судьбу, но и молчаливое добродушие, спокойное мужество,
то, как он смотрел на внучку, подзывал ее жестом и. гладил волосы и лицо, и яростная одержимость молчанием, овладевшая им под двойным грузом старости и войны. В угловом доме, где поселился слепой Гонсалес, прежде жил единственный друг моего прадеда Педро, сражавшийся вместе с ним на Кубе и расстрелянный без объяснений в первые дни после вступления в Махину войск Франко, когда мой дед Мануэль уже был арестован. В долгие апрельские и майские вечера, когда был слышен крик ласточек, а стрижи пролетали, как летчики-камикадзе, между фигурными водосточными желобами Дома с башнями, старик, возвращавшийся с поля с мешком травы, останавливался перед моим прадедом, вытирал лоб грязным платком и говорил:
– Педро, осталось только нас двое да дон Меркурио.
Однажды, когда моей матери было уже семнадцать, ей наконец удалось понять значение этих монотонных слов: она увидела появившегося на углу площади старика и одновременно услышала заупокойный звон колоколов Санта-Марии. Старик, еще более изможденный, чем когда-либо, положил мешок на землю и, показав жестом в сторону, откуда раздавался колокольный звон, сказал:
– Педро, звонят по дону Меркурио. Теперь остались лишь ты да я. Помнишь, если бы не он, мы бы померли от лихорадки в тех болотах.
Этот человек посвятил последние годы своей жизни тому, чтобы вести счет оставшимся в живых участникам войны на Кубе, умиравшим постепенно в Махине. Сообщив о смерти дона Меркурио, лечившего их в гаванском госпитале, он, наверное, посмотрел на моего прадеда Педро с чувством безграничного одиночества, потому что теперь их осталось лишь двое в чужом мире живых, и в следующий раз, когда смерть придет, чтобы довершить уничтожение призыва девяносто четвертого года, она должна будет выбрать одного из них.
Моя мать говорит, что однажды этот человек не появился. С тех пор как она поняла, что связывало его с жизнью деда, она стала тайно следить за появлением старика, боясь не увидеть его и, находясь в верхних комнатах дома, выглядывала время от времени на балкон, ища глазами его сгорбленную фигуру, или спускалась на крыльцо и под любым предлогом оставалась рядом с дедом, пока солнце еще блестело на флюгерах Дома с башнями и заливало фигурные водосточные желоба красноватым светом. Сначала, в первые дни после исчезновения старика, она пыталась убедить себя, что он стал ходить другой дорогой или заболел, и не один раз, издалека и при неясном свете, принимала за него кого-нибудь другого. Хотя ни она, ни дед ничего друг другу не сказали, однажды, когда он поднялся со своей ступеньки и медленно вошел в темную прихожую, их глаза встретились, и оба поняли, что думают об одном и том же: с тех пор Педро Экспосито больше не выходил погреться на солнышке у двери и почти перестал разговаривать даже со своей собакой. Именно тогда моя мать стала постепенно допускать с ясностью и ужасом непостижимую возможность того, что ее дед долго не задержится на этом свете, что он незаметно исчезнет из мира, со ступеньки, где сидел, из прихожей, со своего камышового стула рядом с очагом, так же, как бесследно исчез тот старик, появлявшийся в определенный час на углу площади Сан-Лоренсо. С угрызениями совести она замечала, что начала уже отдаляться от деда по безжалостному закону, неизбежно отделяющему живых от мертвых, так же, как больных от здоровых, и проводящему между ними невидимую границу, которую ни любовь, ни сострадание, ни чувство вины не могут преодолеть. Дед глядел на мою мать уже с другой стороны этой границы, со стыдливым выражением жалости и отречения, представляя себе, возможно, как болезненное воспоминание, быстрое окончание ее юности и вступление в жестокую жизнь взрослых людей. Глядя на внучку, он угадывал ее застенчивость и страх, недовольство, вызываемое в ней собственным отражением в зеркале, ее неспособность избегать страданий и осмеливаться желать того, чего бы она действительно заслуживала. Ему хотелось оберегать ее, как тогда, когда она была маленькой и укрывалась у его ног, но он не смог защитить даже свою дочь Леонор и, будто снося медленное унижение, страдал при виде увядания ее красоты и молодости от постоянных родов, неблагодарного тяжелого труда, жестокости и несправедливости моего деда Мануэля, которому он однажды сказал: