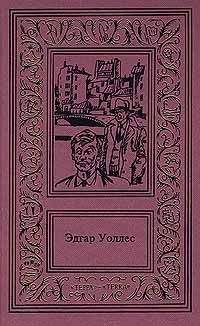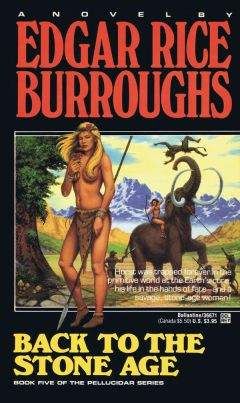Антонио Муньос Молина - Польский всадник
– Но продолжайте свой рассказ, дон Меркурио, – попросил Рамиро, боясь, что врач забыл, о чем шел разговор, – вы что-то упомянули о слухах.
Фотографу показалось, что дон Меркурио с трудом припоминает или притворяется, не желая рассказывать. Завершив обследование здоровья Рамиро Портретиста, врач опять съежился по другую сторону стола – горбатый, маленький, дряхлый, в своем заношенном халате и шапочке карикатурного ростовщика, с неподвижными, сверкающими из-под косматых бровей глазами, глубоко вдавленными в глазницы уже отчетливо обрисовывавшегося черепа. Таким сфотографировал его Рамиро Портретист несколько дней или недель спустя, убежденный, что среди всех лиц в Махине лицо врача единственное заслуживало того, чтобы быть увековеченным на фотографии. Дон Меркурио улыбается, по-птичьи вытянув шею и сложив руки на большой книге в черном кожаном переплете – возможно, Библии, найденной Надей и Мануэлем в сундуке Рамиро Портретиста: его рот слегка искривлен, будто при апоплексии, а во взгляде застыл неподвижный ужас.
– Слухи, – сказал он с презрением, словно вытолкнув слово своим маленьким красным языком, – газетные романы с продолжением: в Доме с башнями жил уединенно, как в средневековом замке, старый нелюдимый граф, женатый на женщине намного моложе его; в доме служил капеллан, бывший скорее камердинером графа, возможно, его родственник из обедневшей ветви, получивший на его деньги церковное образование. Таким образом, у вас уже есть декорации и список действующих лиц, – заметил дон Меркурио с тайным ехидством, – залы со сводами, зажженные канделябры, скрипящие двери, аристократ-феодал, красивая дама, запертая в четырех стенах, статный капеллан. Баритон, сопрано и тенор, хор старых преданных слуг и сплетниц соседок. Бледная дама выглядывает, как привидение, из самого высокого окна башни, капеллан пьет с ней наедине шоколад, пока муж-тиран осматривает свои запущенные сельские владения, заложенные, конечно же, вплоть до флюгера на последней голубятне. Внезапно капеллан исчезает, и больше о нем ничего не известно: рассказывают, что он был нечист на руку и погиб в драке в игорном доме или вынужден был принять место приходского священника в архиепископстве на Филиппинах. Вскоре старый аристократ и его супруга тоже уезжают в дальнее путешествие. Говорят, что она заболела туберкулезом и граф продал за бесценок свой особняк и последние имения, чтобы оплатить ее лечение в альпийском санатории. Однако ходили слухи, что, возможно, в карету с графом села вовсе не его жена, потому что ее лицо было скрыто черной вуалью и некоторым она показалась менее высокой или более толстой, чем ее помнили, хотя раньше графиня почти не показывалась на людях. И на этом заканчивается история, друг мой. Нет последнего акта или где-то затерялся заключительный лист романа. Убил ли граф Давалос свою неверную молодую жену и капеллана, совершившего двойной грех нарушением религиозного обета и верности сеньору? Действительно ли он замуровал ее в подвале Дома с башнями и купил молчание служанки, надевшей платье и дорожный плащ его жены и закрывшей лицо вуалью, чтобы сойти за графиню? Все это – газетные романы, бороды из пакли, картонные застенки, друг мой!
Горький смех дона Меркурио прозвучал как сухой кашель: он уткнул подбородок в грудь, а потом медленно поднял глаза, искоса и пристально взглянув на Рамиро Портретиста, чувствовавшего исходивший от врача, как от мумии, затхлый запах пыли. Дон Меркурио открыл книгу наугад и с помощью лупы прочитал вслух, водя по строчкам кривым указательным пальцем:
– «Верящий вены подобен тому, кто ловит тень и преследует ветер. Видения в снах похожи друг на друга, как похоже Одно лицо на другое. Из грязи – что выйдет чистым? А из лжи – какая правда?»
– Но это не сон, дон Меркурио, эта женщина была там, вы и я видели ее, а теперь ее похитили.
Врач ничего не ответил. Он внимательно посмотрел на Ра-миро, соединив руки на широких листах книги, улыбнулся усталой улыбкой, выражавшей жалость или насмешку, приложил лупу к правому глазу и провел указательным пальцем вниз по той же странице, пока не нашел того, что искал:
– «Я много всего видел во время моего скитания и больше понимаю, чем могу сказать».
*****В хорошую погоду, апрельскими вечерами, когда в золотистом и спокойном воздухе на площади летала пыльца и люди приносили с поля только что зацветшие оливковые ветви, разглядывая их желтые бутоны как первое предвестие будущего урожая, мой прадед Педро садился на ступеньку возле дома, чтобы погреться на солнышке. Рядом ложился его пес, и оба в невозмутимом молчании наблюдали за играми детей и проходящими мимо людьми и животными – ежедневным шествием бродячего народа, неизвестного на наших улицах и вообще в Махине и говорившего со странным акцентом. Точильщики-галисийцы, приближавшиеся со звуком флейты, ведя за руль велосипед, который они потом, перевернув, ставили на землю, чтобы крутить точильный камень с помощью колеса; старьевщики, собиравшие в домах старые альпаргаты и кроличьи шкурки; зеленовато-желтые жестянщики, будто подпаленные в печи и только что поднявшиеся из преисподней; ужасные угольщики с черными лицами и блестящими, как у африканцев, глазами; торговцы из Ла-Манчи в черных блузах и с весами на плече, несшие сыр в своих белых парусиновых мешках; одинокие угрюмые бродяги; нищие богомольцы; супружеские пары старых побирушек, бившие в жестяную миску и распевавшие в унисон благодарственные молитвы Деве Марии де Пилар и песню «О моя Роса, пучок гвоздик»; слепые с поводырями, читавшие нараспев романсы о чудесах и злодеяниях; дети с обритыми головами во взрослых беретах и пиджаках с дырявыми карманами, с траурными повязками на рукавах; продавцы горшков и кувшинов с ослами, украшенными желто-красной сбруей; безбожно бранящиеся погонщики; цыгане с матрасами и зонтами, менявшие сырой горох на жареный; пастухи, спускавшиеся со своими стадами коз и коров к источнику у городской стены, после чего в воздухе оставался запах навоза и клубы сухой пыли; бедные крестьяне, не имевшие даже вьючных животных и с трудом тащившие на себе вязанку дров или мешок с подобранными в чужих садах остатками оливок, овощей или зелени.
Теперь вспоминает не моя мать, а я сам рисую для Нади и себя фигуры того времени без дат, которое ее воображение относит к другому веку, а не к памяти и жизни человека примерно одного с ней возраста, крепко обнимающего ее и шепчущего на ухо в утомленной темноте страстной ночи. В это время очень далеко, по другую сторону океана, на вершине большого холма, кажущегося намного выше, если смотреть на него с берегов Гвадалквивира, солнце уже несколько часов освещает в Махине бурые крыши и башни песочного цвета, фасады и белые каменные ограды квартала Сан-Лоренсо, сорную траву и мох, покрывающие каменные кровли и навесы над опустевшими скотными дворами, похожими на декорации, сохранившиеся неизменными после того, как исчезли актеры и зрители, оставившие в воздухе звучание своих голосов. Так после наступления сумерек в тишине остаются отголоски дневных звуков: монотонной флейты точильщика, овечьих колокольчиков, пронзительных выкриков жестянщика, Ударов дверных молотков, голосов детей, до сих пор играющих при свете лампочек, несмотря на то что матери давно зовут их домой. Старик появлялся каждый день в один и тот же час из-за угла Дома с башнями и шел, согнувшись, к улице Посо – он жил несколько выше, на улице Ортеланос. Поравнявшись с моим прадедом, он ставил мешок на землю, чтобы передохнуть, и, вытирая пот, говорил ему:
– Да, Педро, осталось только нас трое да дон Меркурио.
Потом старик снова взваливал свой груз на спину и продолжал путь маленькими медленными шагами; казалось, что он в любой момент может рухнуть на землю под этим легким мешком с травой. Это был самый старый человек, виденный моей матерью: с согнутыми дрожащими коленями, фиолетовыми руками, влажными глазами, отвисшими красными веками и выражением бездомного животного во взгляде. Моя мать спрашивала у деда, почему этот человек каждый раз говорит ему одно и тоже, но дед ничего не отвечал, а лишь улыбался, поглаживая ее по щеке, и продолжал сидеть неподвижно, погруженный во что-то недоступное ее пониманию, в созерцание черепичных крыш, крон деревьев или лиц проходивших мимо незнакомцев. Дед, всегда молчаливый и ласковый, глядел, как моя мать обрызгивает водой мостовую перед дверью дома, а потом подметает ее с той же сноровкой взрослой женщины, с какой носила на руках своих младших братьев или становилась на колени с мокрой тряпкой, чтобы вымыть плиточный пол в прихожей. Моя мать помнит, что дед смотрел на нее с болью и нежностью, видел, как она подрастает, тогда как сам он неизменно продолжал сидеть возле очага, на низком стуле во внутреннем дворике или на ступеньке у двери. Она никогда не думала о том, что дед может умереть, что станет с годами таким же слабым и жалким, как человек, проходивший каждый день мимо дома с мешком травы за спиной. Однажды, через несколько месяцев, тот остановился, тяжело дыша, рядом с дедом и сказал ему: