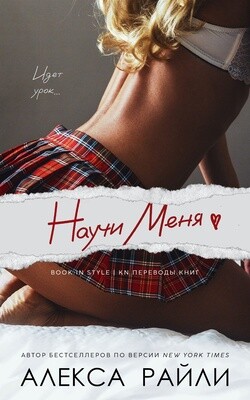Сын - Паломас Алехандро
Прошло десять минут. Дождь не унимался. Мануэль немного успокоился, слезы высохли. Он снова сел за стол, и мы молча слушали стук дождя по оконным стеклам. Я глянула на часы. Без четверти двенадцать.
— А теперь мне пора, — сказала я, положив руку на плечо Мануэля. — Я обещала Гилье прийти на концерт и посмотреть его номер.
Он не шевельнулся. Смотрел в пол.
— Если вам что-нибудь понадобится, звоните мне, не стесняйтесь, — сказала я ему, взяла сумочку, направилась к двери. — Мой телефон у вас есть.
Уже в дверях столовой услышала его голос, тихий-тихий:
— Можно… мне с вами?
Я замерла как вкопанная. Обернулась.
— Конечно, можно.
Он улыбнулся. Печально, но в глазах светилось что-то новое. С них словно спала тень. Он неспешно встал, сказал:
— Если подождете минуточку, я переоденусь…
— Разумеется.
Спустя пять минут он появился. Умылся, надел джинсы, кожаную куртку и синие туристские ботинки.
— Идем? — спросил, заглянув в дверь столовой.
Я встала, пошла за ним в прихожую. Он открыл входную дверь, посторонился, пропуская меня вперед. А потом вдруг замер, наморщил лоб, уставился на белую кожаную сумку на полу, рядом со стойкой для зонтиков.
— Что-то случилось? — спросим я его с лестничной площадки. Мои часы показывали без пяти двенадцать.
Он ответил не сразу. После секундной заминки наклонился к сумке, открыл. Не разгибаясь, повернул ко мне лицо Вид у него был встревоженный.
— Гилье перепутал сумки, — сказал он, медленно качая головой. Вытянул наружу цветастую юбку от костюма Мэри Поппинс. — Ушел с моей.
Гилье
— Но… скажи на милость, где ты столько шлялся?
Сеньорита Клара схватила меня за руку и слегка дернула, вот так, но несильно, в ее глазах кишели красные огоньки. На сцене близнецы Росон пели песню Рикки Мартина и уже заканчивали, потому что уже второй раз пели «Ай да Мария», а значит, сразу после них был мой черед.
— Просто я ходил в туалет для старших, а на улице сильный дождь, и я не мог выйти во двор, потому что не хотел промокнуть, но, наверно, теперь уже все равно?
Сеньорита посмотрела на меня, и рот у нее стал большой и круглый, как буква «О», и сказала:
— Но… но… а… твой костюм?
— Просто я его дома забыл…
— О Господи. — Ее черные брови сдвинулись, срослись в одну. И тогда она сказала: — А Назия? Она-то куда подевалась? — Я ничего не сказал. — Гилье?
— Она с сеньоритой Соней.
— С… Соней?
— Да. Наверно, они в аэропорту, но, наверно, все-таки еще нет. Я просто не знаю, потому что они поехали на полицейской машине с сиреной, но с выключенной, и, может быть, они все-таки опоздают, и тогда она не выйдет замуж за толстого сеньора с гаремом.
— Боже правый. Но, Гилье, — сказала она и схватила меня за капюшон, я ведь надел папин черный свитер с капюшоном, — ты ведь понимаешь, что не можешь выйти в таком виде на сцену? — И покачала головой, один раз. потом еще четыре и сделала языком вот так — «ц-т-т-ти». И еще спросила: — И скажи-ка, пожалуйста, кем ты нарядился? Похож на этих… на уличных рэперов.
Я не знал, кто такие рэперы, и потому не стал ничего говорить, и она тоже ничего не сказала, просто она не успела ничего сказать, потому что близнецы Росон на сцене сделали руками вот так, вроде сальто, но стоя, один повернулся направо, другой налево, и спели: «Раз, два, три, Мария» — и закончили, потому что вся публика аплодировала и фотографировала на телефоны, особенно их мама, она из деревни, которая называется Сория, и, когда разговаривает с моим папой, всегда говорит: «Ах, как же мы скучаем по деревне, но ничего не поделаешь: дети, у Хосе работа, свекрови надо помочь… только на лето вырываемся, а потом так грустно возвращаться в город…»
И тогда сеньорита осмотрела меня медленно-медленно, с головы до ног, словно что-то на мне потеряла, и ее сросшаяся бровь стала еще толще.
— Но, Гилье… Ты же вымок до нитки!
— Немножко!
— Разве это немножко? А почему ты в шлепанцах?! — И ее глаза стали очень большими. — Так и до воспаления легких недолго!
Я посмотрел на свои ноги и вспомнил, что, когда бежал по двору обратно в зал, по дороге иногда попадались лужи, потому что лил дождь, и я почти ничего не видел вокруг, а папины штаны тащились по земле, потому что они мне велики, и вымазались в глине и стали совсем тяжелые.
— Милый мой мальчик, твой номер придется отменить, — сказала сеньорита, скривив губы. — Я не могу выпустить тебя на сцену в таком виде.
Но тут близнецы пришли со сцены в нашу кулису, и сеньорита оглянулась, а сеньор Рамон, он выходит, когда кончается номер, и говорит в микрофон, кто следующий, встал в круге света и сказал:
— А теперь я хочу объявить очень необычный номер. — Повернул голову к нам и показал большим пальцем на потолок, вот так, как американцы в кино. И подмигнул нам: — К нам на гастроли, прямо с крыш старого Лондона, прибыли Мэри Поппинс и ее друг, трубочист Берт!
Все захлопали, а один сеньор засвистел, вот так, и, когда сеньорита перестала держать меня за капюшон, потому что хотела подхватить одного из близнецов, он ведь споткнулся об веревку, я побежал в мокрых шлепках и грязных трениках к кругу света, и так торопился, что пробежал через весь круг и остановился уже по ту сторону, но совсем недалеко. И попробовал опереться на стойку микрофона, но поскользнулся. И тогда все сразу замолчали, р-раз — и тишина.
И кто-то сказал:
— Ой-ей-ей!
Потому что я упал.
Мария
Мы опаздывали. Добрались до места с большим опозданием. В коридоре слышалась музыка из зала. Мы ускорили шаг.
В машине мы с Мануэлем Антунесом не обменялись практически ни единым словом. Он смотрел в окно, на прохожих — дождь чуть моросил, улицы снова ожили. Смотрел, молчал.
И вдруг, на светофоре, сказал:
— Как я мог ничего не замечать… Считай, ослеп…
И посмотрел на меня. В его глазах было столько печали, что я обрадовалась, когда зажегся «зеленый», и мы поехали дальше.
— Не корите себя, Мануэль, — сказала я ему. — Жизнь нанесла вам очень тяжелый удар, а в таких случаях каждый пытается выжить, как умеет.
Он отвернулся, долго молчал, а затем пробормотал:
— У меня одна надежда — что Гилье меня все-таки простит.
Я сделала глубокий вдох, а потом ответила.
— Гилье вас ни в чем не винит — а значит, и прощать тут нечего. Ему достаточно, что вы у него есть. Достаточно знать, что вы рядом.
Он опустил голову и молчал до следующего светофора.
— Прямо гений, а?
Эта фраза меня так удивила, что я подумала, что ослышалась.
— Что вы сказали?
— Гилье, — улыбнулся он. Слабо, но все-таки улыбнулся. — Гений — до всего дошел своим умом.
Я не смогла удержаться от смеха:
— Да, необыкновенный ребенок.
— В маму уродился.
Мы остановились перед «зеброй» — пропустить сеньору с двумя малышами, скакавшими вокруг нее.
— Теперь у него нет никого, кроме вас, — сказала я ему и снова разогналась.
— Да…
Когда мы подошли к дверям зала, оттуда донесся мужской голос. Поначалу почудилось, что он декламирует стихи или произносит речь, но оказалось, что он просто объявляет исполнителей. Долетели отдельные слова: «… хочу… очень необычный номер… Поппинс и ее… Берт». А потом воцарилась тишина, и, едва мы юркнули внутрь, кто-то воскликнул «ой-ей-ей», и мы увидели, что вдали, в неосвещенной части сцены, но рядом с микрофоном, Гилье, поскользнувшись, падает ничком. Раздался глухой грохот.
Мануэль Антунес рядом со мной запыхтел, осекся, двинулся по проходу вперед, но я вовремя схватила его за руку, и он изумленно обернулся.
— Погодите, — шепнула я ему. — Погодите.
Он расслабился, и мы остались в темноте у самых дверей. Гилье медленно поднялся, вышел в круг света.
Я мысленно ойкнула.