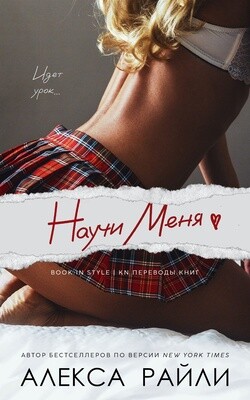Сын - Паломас Алехандро
Когда сеньорита ушла в комнату для переодеваний и сказала: «Дети, дети, осталось пять минут! Прошу вас: не галдите, приготовьтесь!», я вышел через дверь, которая ведет на баскетбольную площадку, и побежал со всех ног, потому что начался дождь и с неба падали большие-большие капли, и так я добежал до двери секретарской, как папины друзья бегают на регби, только я бежал со сдвинутыми ногами, потому что и правда больше не мог терпеть. Потом поднялся по лестнице на второй этаж и добежал до туалетов, но не смог открыть ни одну из трех кабинок. Потому что там висела табличка: «Проведена дезинфекция. Туалет не работает».
И тогда…
И тогда из меня чуть-чуть вылилось, и лилось так, что я не смог остановиться, так иногда бывает по вечерам, когда папа засиживается у компьютера и я в конце концов писаю на постель, только здесь не было простыни, а были бумажные полотенца, они шершавые и маленькие, их нужно очень много, зато их не надо класть в стиралку.
И вот что случилось: я быстро-быстро снял брюки, чтобы вытереться, и трусы, и носки, очень быстро снял с себя все, очень быстро вытерся, потому что боялся, что кто-нибудь войдет, а потом увидел, что не могу надеть свои брюки, потому что они все мокрые и немножко воняют, ну, точнее, очень сильно. И тогда я подумал, что лучше всего завернуть их в бумажные полотенца и надеть костюм Мэри Поппинс, он ведь у меня в сумке. И я полез в сумку за костюмом и тут почувствовал, что у меня что-то заболело вот тут, ниже горла, а стекла в туалете дрогнули от громкого грома.
— Ой. — сказал я вот так, тихо-тихо, потому что у меня что-то ныло под горлом, сдавливало голос, мешало дышать. И еще раз: — Ой.
«Нет, мне только померещилось. Ну пожалуйста. Пусть я увижу, что мне только померещилось». — подумал а. когда снова грохнул гром и в туалете на секундочку погас свет.
Но я тут же полез в сумку, и когда я достал из нее белое полотенце, штаны «Адидас» и спортивные перчатки, то понял, что ничего мне не померещилось.
Сумка и вправду была не моя. А папина.
Мария
Когда я увидела, как в сумрачной гостиной под грохот ливня по крышам Мануэль Антунес обнимает статьи об исчезновении своей жены, мне открылась правда. Детали головоломки, над которой я билась несколько недель, сложились воедино.
«Он знает, — подумала я. И все стало таким очевидным, таким… логичным, что кровь заледенела в жилах, и я снова сказала себе: — Гилье знает, что случилось».
Поняла: черная тень айсберга под ногами отца и сына, которую с самого начала разглядела Соня, — вовсе не то, что мы с ней вообразили, а его полярная противоположность.
Оборотная сторона монеты.
Правда, доподлинная правда, оказалась страшнее, чем мы подозревали: это не Гилье отказывается признать Аманду погибшей. Его отец — вот кто отказывается признать факт ее смерти. Да, Мануэль Антунес цепляется за воспоминания, потому что оставить их в прошлом — выше его сил.
А Гилье…
Я посмотрела на Мануэля Антунеса, и мне показалось, что нас разделяет не круглый деревянный стол, а какая-то пучина. Огромный колодец, полный глубокой, безысходной печали.
— Гилье знает всё, Мануэль, — услышала я собственный голос, и прозвучал он так мрачно, что даже мне показался чужим.
Он еще несколько секунд сидел в обнимку с листками. а потом медленно медленно поднял глаза, вытаращился на меня, спросил, словно не понимая:
— Ги… лье?
— Да, — сказала я, смягчив тон. — Он знает, с первого мгновения. С тех пор, как на следующий день после возвращения из Лондона вам позвонили на мобильный — вы тогда были в пиццерии — и сообщили, что самолет Аманды упал в море.
— Нет, — сказал он еле слышно, прижав к груди распечатки. — Нет. — Снаружи снова рыкнул гром, и комнату озарила молния. Похоже, средоточие бури находилось прямо над нами, гроза молотила по крыше, и Мануэль Антунес качнулся вперед, а потом назад. — Нет… этого не… может… быть… — сказал, насупившись, словно разговаривая сам с собой.
Увидев, как его качнуло, я перепугалась. Даже вскочила, но пока оставалась со своей стороны стола. Антунес замер, но по-прежнему сидел с растерянным видом.
— Мануэль, с того самого дня Гилье делает все, чтобы уберечь вас, — сказала я со слабой улыбкой, пытаясь выразить свое сочувствие. — Хотя вы не принимаете его таким, какой он есть, хотя вы не участвуете в его жизни… Гилье, вопреки всему, заботится о вас неусыпно, пытается подставить вам плечо, делает вид, будто не подозревает об исчезновении Аманды. Потому что он страшно боится, что вы сломаетесь и он потеряет единственного, кто у него остался, и он готов на все, лишь бы оградить вас от страданий.
Мануэль несколько раз моргнул, все еще хмурясь, но взгляд слегка прояснился — казалось, он еле-еле просыпается от очень долгого и мучительного сна.
— Но… я…
— Мануэль. Гилье знает, что его мама разбилась на самолете. и что письма ему пишете вы, и что, когда вы сидите у компьютера в кабинете, на экране никого нет, — он же видел, как вы плакали перед выключенным компьютером. Поэтому он писается по ночам — не хочет, чтобы вы заметили, как он проходит мимо вашей двери. Ведь тогда вы догадаетесь, что он проник в ваш секрет.
У Мануэля началась одышка. Сначала он лишь тихо пыхтел, но затем стал хватать ртом воздух, все более жадно, словно у него плохо с сердцем. Я испуганно приблизилась.
— Гилье… — сказал он, тяжело дыша, озираясь.
Я встала рядом, положила ему руку на плечо. От моего прикосновения он вздрогнул, как от ожога. Потом расслабился, дыхание стало ровнее.
— Мануэль, ради вас Гилье окреп духом, — сказала я, медленно поглаживая его по плечу. — Когда случилась беда, он решил вытащить вас обоих из водоворота, хотя ему всего девять лет, хотя у него гиперчувствительная натура, а вы эту натуру на дух не переносите, потому что не понимаете его — принимаете за слабохарактерность.
Мануэль сглотнул слюну, опустил глаза.
— Значит, всё это время… — пробормотал он.
Я кивнула, гладя его по плечу.
— Чтобы заботиться о вас, он подавил в себе скорбь. Вот почему, когда вас нет дома, он наряжается в одежду Аманды. Просто не знает другого способа почувствовать, что она рядом, что она его не бросила. Его увлечение Мэри Поппинс — в сущности, то же самое. Мэри была их общей страстью, чем-то, понятным только маме и сыну, а теперь стала последней ниточкой, которая связывает Гилье с Амандой.
Дыхание Мануэля снова стало прерывистым — как будто он переутомился или никак не может надышаться. Его печальный взгляд на миг напомнил мне глаза Гилье… и я непроизвольно отвернулась — просто не выдержала.
Но в следующую же секунду решительно заявила:
— Мануэль, вот почему сегодняшний концерт там важен. — Заставила его встретиться со мной взглядом. — Гилье верит: если на концерте он споет и станцует при всех, исполнит номер «про волшебное слово», как он выражается, ему удастся спасти Назию от страшного удела, и сласти вас, пока вы не зачахли от горя и печали. Спасти, чтобы не остаться круглым сиротой.
Мануэль снова сглотнул слюну и покачнулся. И почти беззвучно проговорил:
— Си… ро… той?
Я поддержала его под локоть. Потом взялась за стопку листков, с которой он все это время не расставался.
— Мануэль, Аманды больше нет, — сказала я и потянула на себя листки.
Молчание.
— Она не вернется.
Он уставился на меня, вцепившись в листки. Я хотела было ласково забрать их, но он сопротивлялся.
— Ее больше нет, Мануэль.
Из его глаз медленно выкатились две слезы. Я снова потянула к себе бумаги.
— Вы должны отпустить ее, Мануэль, — сказала ему мягко. — Отпустите ее ради вашего же блага. И ради Гилье.
Снаружи ярился ливень, в окне не было видно ничего, кроме серой водяной завесы. Несколько секунд мы словно играли в перетягивание каната, но наконец пальцы Мануэля разжались, и я постепенно смогла отнять у него бумаги. По его щекам, капая на стол, бесшумно полились слезы. Рыдал он молча, похожий на ребенка во взрослом обличье, и я положила листки на стол и обняла Мануэля, подставила плечо, чтобы он прижался к нему виском и наконец-то смог без помех оплакать свою утрату.