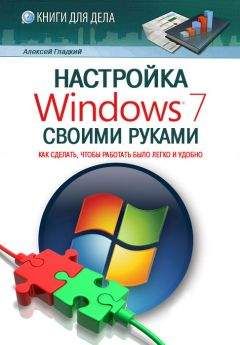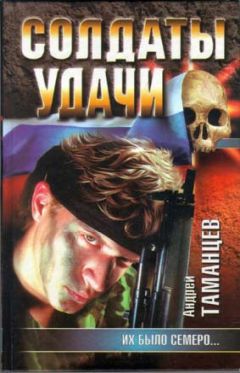Временно - Лейхтер Хилари
Следующая улица кажется знакомой. Я стою посреди дороги и чувствую другую версию себя, стоящую на этом же самом месте. Я бывала здесь раньше? Я несу свои листовки к двери ближайшего дома, дивного маленького домика, с кустами гортензии, обрамляющими вход, и тепло светящимися окнами. Женщина с прелестными золотыми часиками открывает на стук, ее челка убрана со лба и закреплена тонкой серебряной заколкой.
Анна.
Дом Анны, элегантный дом на дереве, полный теплых запахов и мягких прикосновений. Отполированные до блеска полы. Маленькое зеркальце, посверкивающее над кухонным шкафом. Гобелен с веселым сюжетом, висящий в углу, над креслом, заваленным разнообразным хламом. Ясные, хрустящие голоса курантов, доносящиеся из-за окна, подсчитывающие своим колокольным перезвоном математику вечерних ветров. Нотки лимона, масла и меда, кипящих жидкостей и печеных овощей, накрытых, затем, позже, раскрытых, подрумянившихся, хрустящих, случайно подгоревших, соскобленных с противня и запросто замененных другими, толстыми и свежими, только что извлеченными из холодильника. Фамильные ветви томатов на разделочной доске и фамильное древо на фартуке. Вся сцена сияет в наполненных слезами глазах. Анна обнимает меня кашемировыми руками, прижимает к груди, втягивает в свое гнездо, используя объятие, точно лассо, чтобы затащить меня в дом.
— Этот дом, — говорит Анна, раскрывая кашемировые объятия, — мой дом. Я хозяйка этого дома.
Все мое лицо дрожит, и я ничего не могу сделать, чтобы это остановить. Ох, Анна, это все, что я хочу сказать.
— Возьмете листовку? — Это все, что мне сказать удается.
Она выглядит растерянной.
— Да, конечно, — вежливо говорит она.
Протягивает руку, но я не позволяю листовке коснуться ее, этих аккуратных, ухоженных ногтей, этих элегантных колец и золотых часов, которые все еще блестят на ее запястье спустя столько лет.
— Вот, это для вас, — говорю я и опускаю листовку в корзину для листовок у двери.
У Анны есть корзинки всех форм, всех размеров, практически для любого содержимого. Она смотрит на мои грязные краденые сапоги, и я понимаю, что мне надо их снять и положить в корзину. Они уже легко поддаются мне, наконец-то разносились.
— Хочешь воды? — спрашивает Анна.
Ничего из того, что мы делали раньше, больше не имеет смысла, но я думаю, мы обе все еще пьем воду. Мы пьем воду стоя рядышком, наши тела полны жидкостей, крови и кислоты, им нужна вода, нужен кофе, иногда даже алкоголь. Не хочу ли я присесть, интересуется Анна. Конечно, я соглашаюсь, и теперь мы, две женщины, бывшие девочки, сидим рядом. Я понимаю, что мы никогда не сидели вот так, под крышей, в доме, вместе. Всегда сидели посреди проезжей части, на подъездной дорожке, на тропинке, на тротуаре, на перекрестке, на стыке магистралей и федеральных автострад, по которым однажды отправились в путь.
— Это было так давно, прошло уже столько времени, — говорит Анна.
— Да и было ли?
— Конечно. Но я всегда тебя узнаю.
— И я тебя.
— Этот лоб! — говорит она, и я не понимаю, о чем она. Анна делает глоток воды, ее молчание похоже на пытку, и она произносит: — Ты приехала в отпуск? К кому-то в гости?
— Я ищу новое назначение. А ты?
— А я здесь живу, — говорит она, растерянно указывая на комнату. — Помнишь?
— В смысле, какое у тебя сейчас назначение?
— Меня уже не назначают. Больше не назначают. — Да?
— Я пересела с того старого фургона доставки на другой фургон доставки, потом на автобус, на поезд через всю страну, и когда вернулась, обрела стабильность. И настоящую работу. Работу мечты! — Она прижимает руки к подбородку и зажмуривается, словно принцесса, чье желание исполнилось.
— Постоянную работу?
— Ага. — Кажется, она разочарована тем, что я не радуюсь. — Ну, знаешь, вполне обычная работа. — Она выдавливает слово «обычная» так, словно закатывает глаза.
Я забираюсь на диван с ногами, поджимаю их под себя, но, может, это слишком неформально? Дырки на моих носках сверкают, и я медленно опускаю ноги обратно на пол.
— И какова она? — спрашиваю я, пытаясь не заплакать. — Стабильность?
— О, знаешь, это непросто описать. Может, как вьюнок, опутавший ноги? Или нет. Может, как радуга-пружинка, которая перетекает из ладони в ладонь? Нет, это тоже не подходит. Знаешь, у каждого свое. Но, видимо, не для каждого.
— Не для каждого, — повторяю я, как будто показываю застарелый шрам.
— Я не это имела в виду! — восклицает она. — Не бойся. Когда ты что-то знаешь, просто знаешь это — и всё!
Я надеюсь, что она не скажет того, что все-таки говорит.
— Иногда такие вещи случаются, когда ты их совсем не ждешь, — улыбается Анна.
— Где ты работаешь? — спрашиваю я, едва дыша, стараясь сменить тему. — Где твоя постоянная работа?
— В банке, — говорит Анна, закутываясь в кашемир. Теперь она — кашемир в кашемире.
— В котором?
— У них там все так запутано, — говорит она, — но, строго между нами, вообще-то, это один и тот же банк. Просто один банк. Все эти ограбления мало на что влияют.
Я все еще помню Лоретту, режущую, толкающую, захлопывающую сейф, кровь, собирающуюся на полу.
— Тебя когда-нибудь, случаем, не назначали убирать банк? — спрашиваю я.
— Боже, ты такая смешная, — говорит Анна и глотает воду, словно та вдруг наполнилась ядом. — Мне никогда не нужно ничего убирать, даже собственный дом.
— Ясно.
— Мы должны заботиться о себе, знаешь ли! — провозглашает Анна. — Особенно сейчас, со всеми этими бомбежками и сбежавшими преступниками. И я слышала что-то о диком чудовище, похожем на дракона. Что вообще такое — жизнь? — Она качает головой, затем смеется. Настоящим, счастливым смехом.
Меня сотрясает дрожь, но почему? Я расстроена? Мне холодно? Я в безопасности? Мне страшно?
— Да ты вся трясешься! — говорит Анна и оборачивает меня краем своей кашемировой накидки, действительно только самым краешком с бахромой. Мы секунду сидим так, одновременно удобно и не очень, губы Анны сложились, и на ее лице появилась гримаса, которую я не могу расшифровать. Когда мы были маленькими, за каждой дверью скрывалась тайна. Каждая тайна скрывала жемчужину. Мы находили комнаты, сокрытые в других комнатах, находили чьи-то останки, сокрытые под холмиками земли. Мы с восторгом странствовали по всем поверхностям и всегда что-то находили. А теперь Анна забрала все тайны себе, накинув их на плечи, словно безразмерный свитер. Я кое о чем догадываюсь: повзрослеть — значит не разгадывать загадки, а превратиться в одну из них.
Круглый голос прыгает вниз по ступенькам, как веселый звонкий мячик. Конечно, Анна знает его, потому что кричит в ответ:
— Минутку, малыш!
Она вся вытягивается, расправляет плечи, вскидывает голову.
— Мы хотели посмотреть фильм, — говорит она, и я впервые замечаю два бокала и две тарелки. Две салфетки. Два пульта, еще два — на полке и еще один на керамической тарелке.
— Так много пультов.
— Ну да. Мы все время забываем, на какой из них зачем нужно нажимать. Никогда не могу нормально настроить громкость! — Она поджимает ноги под себя и, кажется, предлагает сделать то же самое и мне. Она откидывается на спинку дивана и протяжно зевает, и я думаю, может, Анне скучно?
— Тебе нужно остаться, — говорит Анна, зевая снова, и последнее слово из-за этого звучит как «стать-ся», и тут я понимаю. Выход — здесь. Здесь, в этом неясном, подавленном зевотой слове, точно тайная дверь.
— Нет-нет, я уже пойду.
— Может быть, все-таки составишь нам компанию? Почему ты не хочешь стать-ся? Ты же только пришла.
— Я его уже смотрела. На самом грандиозном экране. — Я указываю на телевизор, где стоят на паузе вступительные титры. Я узнаю тот самый фильм, который демонстрировал капитан пиратов в рамках свой придуманной ретроспективы. — Его показывали нам через проектор, — говорю я.
— Здорово! Как в уличном кинотеатре?