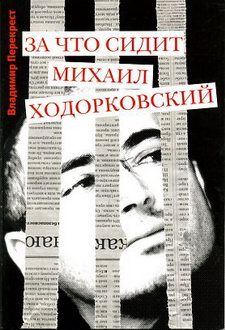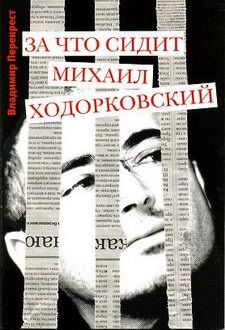Ирина Васюченко - Искусство однобокого плача
Томка беспокоится. Наводит справки. Полагая, что мне так легче, сопровождает меня, стоит милым терпеливым столбиком перед дверьми моих мучителей. Зря она это: в ожидании возможного приговора мне бы лучше быть одной. Чтобы сперва побродить со скверной новостью по улицам, освоиться, привести в порядок физиономию, если не душу, а уж после… Но Клест такой нужды не признает, а намекать ей, что деликатность для меня дороже сочувствия, рискованно. И она такая трогательная, что просто язык не повернется.
— Оперировать никогда не поздно, — скорее приятно, чем вразумительно глаголет девяностолетнее светило гинекологии, принимающее пациентов в громадной квартире близ метро “Кропоткинская”. — Это, знаете, не редкость. У моей дочери была такая опухоль. Прескверная. Росла быстро, переродилась…
Как же “никогда не поздно”, если “переродилась”?
Старец по-жречески импозантен и умиляет величавым равнодушием к участи своих больных. Внимая ему, нельзя не почувствовать, насколько вопрос о том, умру я через год или через полстолетия, ничтожен с точки зрения вечности. Но в главном мне уже повезло чрезвычайно: меня пользует он, олимпиец из олимпийцев, единственный в своем роде, а не кто-нибудь “из нынешних”, жалких невежд…
— К тому же, дорогая моя, есть вещи и помимо медицины, которые врач обязан знать. Поэтому говорю вам: из городка, где вы, по вашим словам, обитаете, надо бежать. Вы спросите, куда? И я вам отвечу: да куда угодно! Там гигантский подземный завод, засекреченный, разумеется, но для профессионала моего ранга секреты наших оловянных солдатиков, как вам, надеюсь, понятно, существовать не могут. В этом богооставленном городишке такая радиация, что не только вы с вашим диагнозом, но и абсолютно здоровый человек имеет все основания приготовиться к худшему. Ваше счастье, что случай свел вас с врачом, имеющим возможность о сем вас предварить и видящим в этом свой прямой долг!
Не слишком поверив велеречивому профессору, я тем не менее поспешила передать его совет родителям. Мне безумно хотелось уехать. Сменить улицу, станцию, стены, крышу, а хорошо бы и кожу. Повод пришелся кстати, я живо нашла обмен — из благоустроенного, по тем временам на редкость хорошо снабжаемого городка перебраться в такую же пятиэтажку крохотного зеленого поселочка было не мудрено. Еще доплату можно бы содрать с шоферского семейства, с трудом скрывавшего радость, что нашли дураков, готовых на такой обмен.
Не решилась. Что, если наш чистенький зеленый город — и впрямь душегубка? А я, пользуясь их неведением, заставлю без того обманутых мной людей еще и раскошелиться?
— У вас здесь свежий воздух, — буркнула я, приехав осматривать новое жилище, — а там, говорят, вредно жить, загрязнения всякие…
Так — мошенническим финтом — я худо-бедно успокоила свою совесть. Будто не было понятно заранее, что осчастливленный шофер пренебрежительно отмахнется:
— Ну, это нам не привыкать! Люди мы простые, всякого навидались…
А сейчас мы вступим в область таинственных явлений, что по нынешним временам зазорно. Некогда девственная и манящая, она истоптана, заплевана — неприлична. Но обойти ее автору не удастся: были-таки странности с этим переездом.
…Однажды мы со Скачковым забрались в лес дальше обычного. И сбились с дороги. Чтобы попасть домой, следовало, по его мнению, повернуть направо, по-моему же, налево. Я уступила, предвкушая, как посмеюсь над ним, когда моя правота обнаружится, и мы весело зашагали по живописной тропинке не туда. Шли долго, пока, наконец, не выбрались на опушку. Там начиналось картофельное поле, виднелись избы деревни, водокачка, три скучных дома городского типа. Прогудела электричка, значит, станция рядом. Вид этого банального пейзажа произвел ошеломительное действие: меня шибанула тревога настолько особого рода, что нельзя ни забыть это чувство, ни спутать его с каким-либо другим.
Прошли годы, прежде чем мне снова довелось увидеть ту опушку. Это случилось, когда, провернув квартирный обмен, я в сопровождении Али пустилась обследовать местность. Узнавание не было радостным. Выходит, что-то во мне еще тогда знало, что я буду здесь, в одной из тех трех пятиэтажек, жить? Когда ты одержима идеей свободы, идея предопределенности отнюдь не прельщает, а доходящая до таких подробностей — тем паче. Но тот непонятный внутренний толчок волей-неволей пришлось истолковать как предчувствие.
Снова пройдут годы, и оно подаст голос вторично. Ранним октябрьским вечером Ася Арамова потащит меня на день рождения своей московской приятельницы. Мы выйдем из метро на проспект, свернем в тихую, сквером начинающуюся улицу, и тут:
— Ах ты, черт!
— Что с тобой?
— Видишь ли… Это, конечно, дичь, но…
Выслушав мою невразумительную историю, Анастасия не без иронии полюбопытствует:
— И что же случится на этот раз?
— Понятия не имею. Раскинуть здесь свой шатер мне вряд ли позволят. Но что-то будет! Надо держать ухо востро. А то в один злосчастный день забегу к Регине, заболтаемся, тут меня на обратном пути в темном скверике и прирежут.
Прирезать не прирезали, получилось еще интереснее. Я живу теперь на этой улице. Здесь вырос человек, в ту пору еще не знакомый, которому предстояло стать моим мужем (как истую противницу брачных уз, меня угораздило выйти замуж вторично).
Куда как лестно было бы предположить в себе провидческие способности. Но мое предчувствие похоже на выжившего из ума неврастеника: вечно без толку бубнит невнятицу, к которой — многажды проверено — не стоит прислушиваться. В свой большой колокол оно бухнуло всего дважды, оба раза по одному и тому же пустяковому поводу. Разве так важно, где нам жить, обитателям стандартных ячеек, и до нас, и после столь же временно дающих приют людям чужим и случайным? Добро бы мы были владельцами фамильных поместий, где стены пропитаны памятью поколений, обжиты духами предков! Но и поднятый на такую высоту, квартирный вопрос не представляется достаточно серьезным, чтобы возбуждать трепет прозрений. По правде говоря, меня все это скорее раздражает. Однако иметь в распоряжении загадочное происшествие, пусть даже слабо связанное с основным конфликтом и глуповатое, и умолчать о нем — какой рассказчик пойдет на это?
Последнюю неделю перед переездом я провела в не свойственных мне хлопотах о будущем уюте. Отыскала на Арбате толстую, грубее некуда зеленую ткань и пригласила мастера, чтобы обил дряхлое дырявое кресло. Отхватила в местном мебельном четыре стула — товар в ту пору редкий. Бежать за подмогой было немыслимо — упустишь! — и я добрый километр перла по жаре тяжелеющие с каждым шагом, топорщащиеся ножками и спинками, норовящие выскользнуть из вспотевших рук и брякнуться в дорожную пыль стулья. А еще пришлось выбирать какие-то занавески, кастрюльки, клеенки… “Это нужно Вере, — твердила я себе. — Легче вернуться домой, если здесь не будет такого угрюмого разора”.
О том, что и сама не прочь от него избавиться, я как бы не догадывалась. Слишком привыкла думать, что от таких мелочей не завишу.
Когда мы наскоро расставили в новой квартире старую мебель и со славой добытые, еще пахнущие магазином стулья, я подошла к окну и вместо градирни увидела далекую щеточку бора, пушистую от садов деревушку, а ближе, перед самым домом, прудик среди ветел и берез. Мило. По мне — слишком игрушечно. И вдруг… Как бы сказать? Не то, конечно, а лучших слов не подберу: пространство стало одушевленным. Оно смотрело. Взгляд был неоправданно дружествен…
Выжила! Я сползла в ядовито-зеленое, заново обитое кресло и зажала рот ладонями, пытаясь заглушить счастливый смех. Но тут, опять-таки вдруг, что-то тяжеленное обрушилось сверху, с тупыми, но мощными когтями, с оглушительным сопением! “Бедный песик” подумал, что я плачу. А этого он не выносил — бросался утешать с напором, способным сокрушить и повергнуть во прах слабый организм.
Но мой не сдрейфил: ругаясь, хохоча, утирая все-таки набежавшие слезы, я выпуталась из сострадательных когтистых объятий. Высокая торжественность момента была намертво испорчена. Плевать! Он, момент, был чудесен и безо всякой торжественности.
В груде неразобранного барахла я отыскала альбом, цветные карандаши и, с детским тщанием блюдя верность натуре, срисовала заоконный пейзаж. Только на плоском зеленом бережке позволила себе домыслить рыжего веселого Али. На самом-то деле пес, утомленный своим душевным порывом, уже похрапывал на диване и болезненно дрыгался во сне — антиблошиный ошейник в те годы казался таким же мифологическим предметом, как святой Грааль.
Закончив, я вырвала альбомный лист, сложила вчетверо и затолкала в заранее надписанный конверт: “Куба, посольство СССР…” Он поныне цел, этот ностальгический, дважды — раз вдоль, раз поперек — надломленный рисунок. Бесстрастный наблюдатель сказал бы о нем только одно: его автору лучше не судить о чужих живописных талантах.