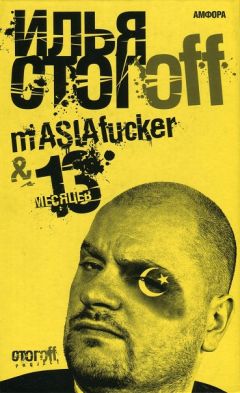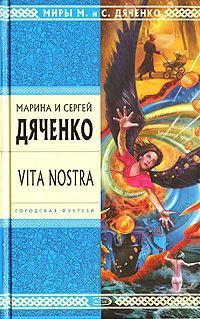Анджей Стасюк - Дукля
«Павлиний глаз», бабочка с крыльями из сосновой коры (как детские кораблики), прожженными солнцем насквозь. Края крыльев черные, обугленные, а солнечные уколы окружены лилово-голубым сиянием. Такой цвет приобретает металл, разогретый добела, а затем остуженный: в нем застывает радуга, огонь расщепляет свет раз и навсегда.
Некоторые из них попадают в ту комнату, где холодно и куда заглядывают редко. Но стоит растопить печь, как из углов начинает долетать шелест. Они пытаются оторваться от пола, вырваться из пыли и темноты. Можно услышать серый сыпучий звук, который издают эти сотканные из воздуха и света создания. Самые сильные порой вспархивают вверх и устремляются к окну.
На дворе холод, белизна простирается до бесконечности, но они упрямо бьются о стекло. Если выпустить их наружу, мороз сразит их в одну секунду, подобно тому как пламя свечи в мгновение ока уничтожает мотылька.
Они умирают, трепеща в холодном солнце декабря. Этот звук имеет нечто общее с шорохом, какой издает истлевшая от старости бумага, — разотрешь ее в пальцах, и она рассыпается на мелкие кусочки.
Наконец солнце заходит. Комната остывает, воцаряется тьма, и становится тихо. Теперь можно рассмотреть их получше. С тыльной стороны сложенные крылья своей фактурой напоминают хрупкий минерал. Темная синь пронизана черными жилками, кое-где видны золотые крупинки — подобные находят в кусочках угля. Такое соединение минерала и света вызывает ощущение нереальности их смерти; ведь не может так внезапно перестать существовать то, чего время, собственно говоря, не касается.
Но кроме этих в целости сохранившихся бабочек — сложенные пополам, они тихо лежат на боку — в темных закутках можно обнаружить десятки отдельных оторванных крыльев. Может быть, это самоубийство или некая разновидность крайнего самопожертвования.
Званый прием
Когда в ночи веет ветер, темнота шевелится, а звуки обретают форму. Их не видно, но они попадают в ухо, словно материальные предметы. Череп внутри должен быть огромным, как целая околица, чтобы вместить все это.
Он уже собрался выбросить сигарету и вернуться домой, как вдруг что-то услышал. Воздух, словно черный гигантский бумажный змей, пронесся над кронами деревьев. Ветки разодрали тугую оболочку, и из-под нее, откуда-то со стороны узкого ущелья или вершины горы, припорхнули рассыпавшиеся отголоски эха. Словно бы оттуда, из-под небес, из середины мрака сбегала вниз орава расшалившихся ребятишек: ауканье, восклицания, боевые индейские кличи. Полотнище ветра заколыхалось, растянулось и внезапно начало свертываться, как натянутая штора. Он остался в полной пустоте. Воздух погнал туда, наверх, и добрался до вершины горы. Он понял это по грохотанию старой буковой посадки. Порыв ветра перекатил через хребет, и в минутном затишье он услышал высокий истеричный женский смех, который, достигая самой высокой ноты, переходил в рыдание. Потом к этому голосу присоединились другие, похожие, и лишь очередной удар холодной массы воздуха помчал украденное эхо в глубину ночи. Он щелчком отбросил окурок. Красная искорка мгновенно исчезла. Неизвестно, упала ли она в снег, или же порыв унес ее вне поля зрения.
Временами ветер отрывался от земли, перемещаясь над вершинами гор, высоко, далеко, а грохот не утихал ни на секунду, словно бы там, на невидимой границе неба, прорвался водопад, словно бы в очередном потопе воду должен был заменить воздух.
И тогда он услышал это снова. Гораздо ближе. Где-то на середине склона. Точно свора псов, у которых перехватывает дыхание, подумал он. Псы, которым ветер запихивает лай в пасти, и они могут лишь издавать высокое, прерывистое скуление. Псы, которые не могут лаять. А потом он услышал еще один голос и почувствовал, как у него мороз пробежал по коже.
* * *На следующее утро он пошел к тому месту. Ветер утих. Снег и туман были цвета молочного стекла. Деревья выглядели как тонко выписанный рисунок, на который пролилась вода. Кровь уже потемнела, но когда он отгреб немного снега кончиком ботинка, то обнаружил, что внизу она была светлая и живая. Он огляделся по сторонам. От леса его отделяла обширная пустая плоскость. В конце концов, сейчас день, подумал он, но не мог избавиться от беспокойства. Присмотрелся к следам. Вот здесь животное упало, но еще имело силы, чтобы встать и продолжить бегство. Отпечатки волчьих лап были отчетливыми. На разметанном снегу остались обрывки темно-коричневого меха с серой подпушкой. Дальше его проводили вороны.
Это была лань. Она была похожа на развороченную кучу палок и грязных лохмотьев. Он нашел разбросанные кости с остатками мяса. Волки хватали каждый свой кусок, отходили чуть выше и ели, на безопасном расстоянии друг от друга, образовав широкое полукружие с основным блюдом в центре. Потом спускались вниз, снова отрывали кус и возвращались на свое место. Длилось это, видимо, до утра.
А сейчас здесь царило такое безмолвие, будто уже никогда и ничто не могло случиться. Он подумал о ночном шуме, и ему припомнились все эти званые приемы, когда люди возбужденно разговаривают, перекрикивают друг друга, их руки заняты жестами и приборами, и лишь насмешливый свет зари восстанавливает неподвижность.
Он пошел обратно. Вороны только этого и ждали.
Раки
Рыбы уже были мертвыми. Вода куда-то исчезла. Небо выжгло зеркало, в котором отражалось весь последний месяц. Яркий разреженный огонь добрался до камней. Выглядело это словно дорога из белых костей, что-то наподобие этого. Русло извивалось по рыжему лугу, глубокое, абсурдно изогнутое, его наполняло жужжание мух. Бледно-зеленые и чернильного цвета насекомые имели жесткость металла, подвижность и блеск ртути. Все остальное — воздух, лес на склоне, кружащий вокруг солнца сарыч — было неподвижным.
Мы шли вверх по течению. Потревоженная галька издавала деревянный треск. Короткое эхо вспархивало вверх и тут же затихало. В излучине под обрывом росло более десятка ольховых деревьев. В том месте, где поток прежде скатывался по порогам, царила тишина. У луж был цвет грязного бутылочного стекла. Камиль сказал, что неплохо бы выпить пивка, а я ответил, что лучше подождать до вечера, потому что какой смысл так вот пить и пить.
И тогда мы увидели их. Только глаза. Круглые коричневые бисеринки еще сохраняли блеск. Все остальное тело уже уподобилось минералам. Панцири были покрыты подсыхающей тиной. Они шевелились вяло, даже не пытались убегать. Лишь пятились среди камней, таща за собой клешни. Слышен был тихий хруст. Они шевелились, точно глохнущие механизмы, точно замирающие заводные игрушки. Некоторые уже были неподвижны. Как и река.
Мы вернулись домой. Взяли розовое детское ведерко. По дороге проехал открытый газик. Пожарники были в темных очках и раздетые до пояса. «Патруль», — сказал я. «Да», — ответил Камиль, и мы вошли в облако горячей пыли.
Они не сопротивлялись. Мы брали их в руки. Они шевелили клешнями. В каком-то бесконечно замедленном темпе резали густой зловонный воздух. Мы бросали их в ведерко. Они шуршали, словно горсть мелких камушков. Этот высохший теперь ручей впадал в более широкий, который еще тек. Мы пошли туда. Вода была прохладной и прозрачной. В солнечных пятнах вились маленькие форели. Мы выпускали раков по одному. Мелочь удирала сразу же, а те, что покрупнее, падали медленно, широко расставив конечности, и застывали на дне. Серый цвет пропадал. Они напоминали сейчас те илистые камни, которые, если их окунаешь в воду, вновь обретают живой зеленоватый опенок. На согнутых суставах просвечивала краснота. Они ползли медленно, ошарашенные внезапной прохладой, приостанавливались, снова трогались с места, чтобы наконец исчезнуть в переплетении свисающих с берега корней. Мы отравились за следующими, а потом еще раз. На дороге нам попалась ящерка желтопузик. Плоская и затвердевшая, совершенно сухая. Мы взяли все, что шевелилось. Даже самых маленьких, не больше кузнечика.
А вечером пошли пить пиво. Солнце уже свершило свое и спряталось за гору, оставляя на небе красные лохмотья, похожие на клочки мяса. Пожарники тоже попивали.
Потом и то, другое русло тоже высохло.
Птицы
Зимой этой дорогой никто не ходил.
Январь был солнечный и почти бесснежный. Мы брели в снегу по щиколотку, и тут Василь сказал:
— Ты посмотри, как вьются!
Пока мы подошли, все они упорхнули. Вороны, белозобые грачи, сойки-трещотки и сойки с крыльями, тронутыми голубизной.
И еще какая-то мелочь. Там, откуда они сорвались, мы нашли серну.
Вместо глаз у нее были красные дыры в белом гладком обрамлении кости.
Василь хотел найти какую-нибудь рану, но шкура была разодрана во многих местах. Вокруг валялись кучки бурого меха.
— Может, сдохла, а может, подстрелили, — сказал он, и мы пошли обратно.