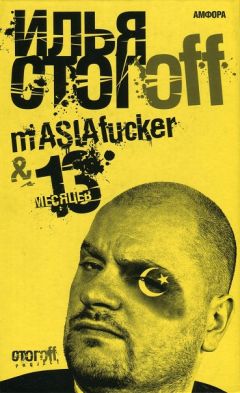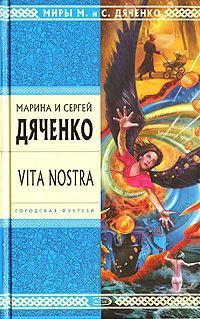Анджей Стасюк - Дукля
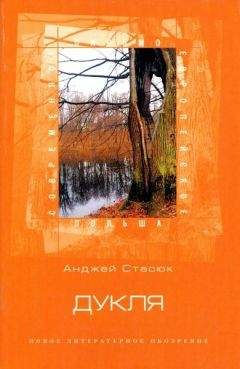
Обзор книги Анджей Стасюк - Дукля
Анджей Стасюк
ДУКЛЯ
Мир по Стасюку
Чтение «Дукли» Анджея Стасюка — это передышка. Оно дает возможность отдохнуть от обременительных причинно-следственных связей, в которых мы запутаны с начала и до конца жизни. Раскрывает нам глаза и показывает объективный мир, который существует рядом с нами, вокруг нас, без нас, независимо от нас, мир, несомненно, более подлинный. Новый сборник художественной прозы Стасюка создан природой, воображением и помойкой цивилизации. У автора безошибочный взгляд и мастерская рука художника, живописца. Пока я не начал читать его, я и не предполагал, что возможно так живописать словом. У Стасюка необыкновенно богатый ресурс слов, но он бережлив и не бросается ими, как это делают молодые, которые только что дорвались. Все взвешено и обдумано, и я не знаю в прозе более метких и поразительных метафор. У него абрис облака на закате солнца «тлеет, словно бумажный свиток», дикий виноград осенью «краснеет и стекает со стен домов, словно густая кровь», съеденная волками лань «похожа на развороченную груду палок и грязных лохмотьев», мороз «замораживает даже время, сплавляя его в единое целое с воздухом и светом». Чем эта проза отличается от поэзии? Прежде всего безыскусностью: «Люди капля за каплей вытекали из домов», «свет автомобильных фар лизал стекла часовни», «деревня осталась внизу. Дождь пытался смыть ее с карты», «дворники» машины «скребли о лобовое стекло, словно хотели пробраться внутрь».
Стасюк — писатель настоящего, которое он улавливает всеми пятью чувствами, ненасытно, едва ли не отчаянно, потому что знает, сколь оно хрупко и слабо, как быстро «ветшает и изнашивается». Он намеренно избегает прошлого, перед которым мы еще более беспомощны, но иногда не может перед ним устоять, и в «Дукле» бесценна такая, например, минута его слабости: «Дрожки однолошадные из Ивонича 3 кроны, двухлошадные 7 крон, дилижанс крона пятьдесят. (…) Спать можно на постоялом дворе Лихтманна за крону пятьдесят, откушать в покое для завтраков у пана Хенрика Музыка. Три тысячи жителей, из которых две с половиной — евреи. Год, скажем, 1910-й. Все вместе напоминает фотографию, тонированную сепией, или старый целлулоид — и то и другое легко горит и оставляет после себя пустое место. Это как если бы сгорело время». Стасюк сознательно отрекается от памяти («этого выродка времени, над которым никто никогда не имел власти»), но иногда вынужден сам признать, что память — это единственная «идея о воскрешении», и в «Дукле» она очень ему пригождается, когда он возвращает к жизни своих бабку и деда.
Стасюк — свидетель настоящего, которое он достоверно описывает. Великолепно запечатлел он прибытие в Дуклю Папы Римского, представив красочную картину ярмарочной, дионисийской атмосферы с 24-строчным перечислением всего того, из чего она сложилась. Не обязательно соглашаться с выводом, что «мир — это бесконечный перечень», но можно целиком положиться на абсолютное зрение и слух автора, который видит и слышит все — даже то, чего Папе не захотелось бы услышать: «Наконец-то и к нам приехал. Проветрит этот жидовский смрад».
Главным героем у Стасюка является материя, одушевленная и неодушевленная, более важная по сравнению с человеком, которого она «стряхивает с себя, точно собака, стряхивающая воду». И поэтому я совершенно не понимаю, как рецензент М.Ч. (Перевал на ту сторону // Gazeta Wyborcza. 1997. 18 ноября) мог углядеть в «Дукле» «жуткий эгоцентризм». Я не вижу там даже антропоцентризма, ведь то, что «художник пережил, о чем вдруг вспомнил, что выпил и куда поехал», это лишь необходимая человеческая точка отсчета, без которой не было бы видно масштабов мира, образа. Рассказчик Стасюка не субъект, а объект, даже в его встрече-инициации с Красотой, в ее эротическом языческом облике. Он — это глаз, ухо, камера, магнитофон, он регистрирует ценные подробности, которые обходят вниманием обычные ухо и глаз. На этом как раз и строится искусство, а то, к чему рецензент относится пренебрежительно, как к «потоку зрительной памяти», является особенным достоинством Стасюка, его исключительным талантом, ставящим его в ряд мастеров. Точно так же не понимаю я, как можно считать «Дуклю» «сентиментальной до мозга костей». Для меня она прежде всего объективная и материальная, каждое воскресенье теряющая «смысл полезности, хлопот и даже элементарной очередности причин и следствий». Стасюк подсматривает действительность, обнажает ее и иронизирует над ней — где же тут сентиментальность?
«Переживания» рассказчика в «Дукле» по большей части банальные, тривиальные, незначительные, поскольку так видит автор существование рядового смертного обитателя Земли. Однако наградой являются эстетические ощущения, которыми одаривает нас художник, и в этом смысле «Дукля» — щедрый дар. И это касается не только оживленных воображением встреч с саркофагом, но и совершенно безличных картин, в которых вроде бы нет никакого действия и фабула за ненадобностью отсутствует, поскольку они сами — действие. «Поток визуальной памяти» Стасюка — регулируемый и контролируемый, намеренный и вымеренный, и обрывается он потому, что, по мнению автора, наша действительность не имеет причинно-следственной непрерывности (с чем, кстати говоря, я не могу согласиться, как и не поощряю беспорядка).
Стасюк находится под влиянием философии Востока, которую понимает, как мало кто другой на Западе. Вот бесценная картинка: «Никто ничего не покупал, а эти, из Львова или, может, Дрогобыча, не меняли позы, окунутые в молочный свет невидимого солнца, затопленные ожиданием, словно истинные люди Востока, которые подозревают, что время не имеет конца и поэтому надо экономить движения, из которых сделана жизнь, чтобы хватило на дольше». Это, вне всякою сомнения, заслуживающая внимания альтернатива для планеты, которую пожирают истеричное предпринимательство и суетливость родом с Запада. Стасюк пишет, что «граница между атмосферой, предметами и людьми сглаживается». Я бы сказал, что в его картинах — так как это прежде всего картины — граница эта стирается и исчезает, и если у него была задача «попытки доказательства первоначального единства всего сущего», то эта попытка ему удалась.
Я удивлен, почему критик, сам признавая, что большая литература может быть «большим собранием миниатюр», не видит при этом, что сборник «Дукля» — в котором даже одноименная 80-страничная повесть также представляет собой цепочку миниатюр — является тому доказательством, а не опровержением. И хоть сам я предпочитаю прибегать к фабуле, не соглашусь, что бесфабульная трагедия «невообразима, как и трагедия буддийская». Стасюк, у которого есть нечто общее с буддийским стоицизмом, доказывает, что такая трагедия (вмонтированная в форму бренности человека и мира) существует, и он убедительно ее описывает. Я не принадлежу к той же школе, что Стасюк, однако не согласен, будто писатель «перешел на худшую сторону прозы» (у литературы может быть несколько одинаково хороших сторон), и не уговариваю его изменить направление, имея в виду «массы людей с их судьбами, надеждами и обманутыми мечтами». Если я и могу что-то поставить в упрек восточной философии Стасюка, то единственно излишний оптимизм, потому что, боюсь, земля не успеет «стряхнуть» нас с себя, и это скорее мы ее прикончим, как бактерии, как неизлечимый вирус.
Стасюк — писатель, с которым не надо соглашаться, чтобы читать его с удовольствием. Возможно, он и не для широких масс, но в мире так называемой массовой культуры (которую он видит и описывает как никто другой) это является скорее достоинством, чем недостатком. Впрочем, я вовсе не вижу препятствий, чтобы «Дуклю» прочел — и внимательно — каждый.
Хенрик ГринбергСередина лета, Погуже
Под утро, часа в четыре, ночь неторопливо приподнимает свой черный зад, так, словно бы, объевшись, вставала из-за стола и шла спать. Воздух похож на холодные чернила, он стекает по асфальтовым дорогам, разливается и застывает черными озерами. Воскресенье, люди еще спят, вот почему в этом рассказе не должно быть фабулы, ведь никакая вещь не может заслонять собой все остальное, когда мы тяготеем к небытию, к констатации, что мир — это лишь минутная помеха в свободном течении света. Лутча, Барыч, Харта, Малы Дул, Татарска Гура, выцветшие зеленые таблички указывают направления, но там ничего не происходит, ничто не шевелится, кроме снов, которые, как кошки или летучие мыши, видят во мраке, и кружат, кружат, задевая стены, святые образа, паутину и все, что там понакопилось за годы. Солнце пока еще где-то глубоко, оно пробуравливает другой мир, но через час выйдет на поверхность, выберется, словно древоточец из полена. Тарахтенье машины слыхать, наверное, за несколько километров. Шоссе бежит по хребтам холмов, падает, снова взбирается вверх, все выше, выше, и в этой полутьме, среди призраков домов и деревьев, создает видимость спиральной башни.