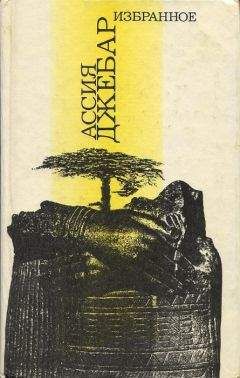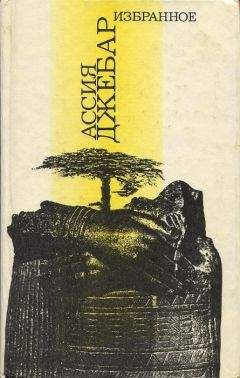Ассия Джебар - Нетерпеливые
— Похоже, я допустила оплошность, сказав, что не видела тебя с того дня, как ты чуть не угодила под колеса.
— Да нет же! Разве не я сама встретила тебя вопросом, как ты поживаешь со дня нашей последней встречи?
— Не знаю, — задумчиво протянула она. — Мне показалось, что твой брат аж вздрогнул…
Я улыбнулась. Можно было бы выпроводить ее с успокаивающими заверениями. Но захотелось сделать ей приятное. Как она обрадуется, узнав, что оказалась орудием судьбы!
— Нет, — сказала я. Однажды, когда я не ночевала дома, Фарид посчитал, что я у тебя…
Не ночевала дома?! — переспросила она, округлив глаза.
— Да.
— О Господи!.. А я-то…
— Да нет, — перебила я ее, разве тебе не понятно, что я сделала это нарочно? Я хотела, чтобы он узнал правду.
— Так ты для этого меня и позвала?.. Выражение обиды смяло ей лицо, сделало его старым, тусклым. Потом она с жалкой улыбкой добавила:-А я-то думала, тебе захотелось меня увидеть…
Я не ответила. Мне стало стыдно, когда я осознала, что могу вот так унижать людей… Но Мина продолжала уже сочувственным тоном:
— Не понимаю, зачем ты это сделала… Я боюсь за тебя, Далила!
— За меня никогда не надо бояться.
— Но что ты скажешь Фариду?
— Правду: что я провела ночь с Салимом, потому что наутро он улетал…
Ее вдруг покрасневшее лицо приблизилось. Уж и не знаю, чего в нем было больше: удивления, любопытства, страха… Она выдохнула:
— Ты…
— Идиотка! — усмехнулась я. — Идиотка. Ничего похожего на то, что ты подумала. Прощай.
* * *
Я поднялась в столовую. Фарид был один. Я не знала, то ли он решил поговорить со мной без свидетелей, то ли Лелла и Зинеб улизнули сами. Но Лелла вернется, сказала я себе, я заставлю ее вернуться в час правды.
Он не двинулся с места: так и сидел за обеденным столом, словно дожидался еще какого-нибудь блюда. Мне подумалось, что этот стол между нами лишит предстоящий разговор всякой серьезности.
Молчание Фарида должно было меня взволновать. Я знала, что он сентиментален и робок. И догадывалась, что он утрачивает контроль над происходящим. Ему была не по плечу трудная роль, навязываемая ему обществом: роль мужчины, который должен блюсти честь своей семьи.
Когда я произносила про себя слова «честь семьи», то из сумрачных глубин памяти на поверхность всплыло единственное воспоминание, которое сохранилось у меня об отце… Властное мужское лицо, женщины вокруг, среди которых, возможно, и моя мать — старая, вся в морщинах, и, как утверждают, добрая. Перед этим трибуналом моя сестра, уже почти взрослая девушка, дрожащая от страха. В моих ушах раздавался звучный голос отца:
— Берегись! Я готов разрешить тебе ходить в лицей еще несколько лет, пока ты не выйдешь замуж… Но предупреждаю тебя: если я, не приведи Господь, увижу, что ты шляешься по улицам, ведешь себя недостойно, то, знай, ни перед чем не остановлюсь… Лучше б тебе тогда оставаться взаперти… Если когда-нибудь одна из моих дочерей запятнает честь семьи, то я возьму ружье и без колебаний разряжу его в нее…
Я помнила глупое хныканье Шерифы, которая из всей тирады отца уловила одни лишь угрозы.
И вот теперь, в этот час, это неуместное воспоминание возвращалось ко мне.
Напротив меня Фарид готовился к сцене, которую наверняка не знал как играть: в духе то ли сурового достоинства, то ли жесткой властности. В любом случае в ней не будет размаха, как нет его в этом человеке, моем брате. Не зря Тамани сожалела об ушедших временах. В этой семье, которая вновь стала уважаемой, уже нет мужчины, способного говорить о чести иначе, чем с мелодраматической напыщенностью.
— Я хочу знать, — начал Фарид, худо-бедно выполняя возложенную на него миссию, — я хочу знать, где ты была в тот день, когда тебе полагалось быть у Мины.
Он сказал: «день», и это слово отозвалось для меня трусостью. Я отвечала спокойно, владея собой. И все произошло быстро, очень быстро.
— Я скажу, что я делала, где и с кем была. Но только при Лелле.
— Зачем ты припутываешь к своей лжи Леллу?
— Я не лгала. Разве это я утверждала, что была у Мины? Если б я хотела солгать, то неужели, ты думаешь, не смогла бы предупредить Мину? Будь уверен: в этом доме скрыть что-то легче легкого…
— Говори спокойней! — входя, скомандовала Лелла.
Тогда я, внезапно распалясь, чуть ли не разрыдавшись, сорвалась на крик. При этом я ощутила, как сладостно ухнуло куда-то сердце: наконец-то мне довелось вдохнуть пряный запах катастрофы.
— Она знала, что я иду к Салиму аль-Хаджу. Я сама заявила ей об этом перед тем, как уйти. Она знала, что я встречалась с ним и до этого дня. Ну, и как же ты исполнила, — это я обращалась уже к Лелле, — свой пресловутый материнский долг? Предупредила ли Фарида? Нет, Фарид, она покрывала меня, хотя я вовсе не просила об этом.
Наступило молчание. Лелла не пошевелилась. В конце концов я воскликнула:
— Это ей надо оправдываться. Мне же больше нечего сказать.
Когда я обернулась на пороге, дом предстал передо мною безлюдным, тихим. Возобновившийся моросящий дождь делал его похожим на брошенный командой огромный корабль. В центре дворика упрямо била вверх струя фонтана — последний остаток утраченной гордости. На вершине, исчерпав свою энергию, она как бы после некоторого замешательства смешивалась с дождем, чтобы вместе с ним упасть в бассейн, поверхность которого напоминала разлохмаченный бархат.
К Шерифе я ворвалась вихрем.
— Дай мне комнату, где я была бы одна, — попросила я, и мой голос показался мне хриплым.
Она не стала ни о чем расспрашивать.
В той же самой комнате, где я выздоравливала после происшествия, я в изнеможении рухнула на кровать и разревелась. Спустя некоторое время я поймала себя на том, что с любопытством слушаю, как из моего горла вырываются рыдания. И довольно долго испытывала это странное ощущение раздвоенности. В свой плач я вслушивалась с неподдельным интересом, но потом вдруг оказалось, что слезы иссякли, а я и не заметила как. Я убила в себе боль.
Когда час спустя вошла Шерифа, она обнаружила меня в обществе своей дочки Сакины, с которой мы решали деликатную проблему: пытались овладеть унаследованным от бабушек сложным искусством мастерить кукол из нескольких прутиков и тряпичных лоскутков.
* * *
Этого визита я совсем не ждала. Я сказала себе это, когда в комнату робко вошла Дуджа аль-Хадж, еще более юная, чем в оставшемся у меня о ней воспоминании. Я предложила ей сесть и, пока мы обменивались обычными формулами вежливости, неторопливо прикидывала, хватит ли у меня пороху до конца выдержать претившую мне роль светской барышни. А еще я немного побаивалась — как у меня это обычно бывало с людьми, которые мне нравились, — намечавшегося долгого разговора.
В довершение всего Шерифа незаметно выскользнула за дверь. Между нами воцарилось молчание. Но тут Дуджа с пленившей меня простотой взяла быка за рога:
— Ты, должно быть, задаешься вопросом, зачем я пришла?
Я слушала ее, и меня охватывали противоречивые чувства. Оказалось, Салим получил мое письмо, где я в общих чертах пересказывала ему последнюю сцену — как из уст Мины прозвучала правда и как я потом защищалась перед Фаридом и Леллой; не имея возможности мне написать, он попросил Дуджу навестить меня… Она рассказала мне, как радостно ей было узнать о нашей помолвке, и предложила свою дружбу и поддержку в эти трудные минуты. Она понимала меня: я находилась в сложном, деликатном положении. Конечно, хоть мой брат и отреагировал так бурно на мои шаги, моя независимость в этой области неизбежно будет подтверждена. Разве на нас, арабских девушках, не лежит ответственность перед остальными? А психология общества не может измениться вот так вдруг, скачком. Во всяком случае, Дуджа была уверена, что мне удастся убедить своих близких в чистоте моих намерений. Негоже, чтобы мое будущее счастье строилось на бунте.
Я слушала ее и не знала, что сказать. Я восхищалась ее искренностью, логикой ее рассуждений, которым нельзя было отказать в убедительности. Почему Лелла не смогла, подобно Дудже, вселить в меня надежду на примирение?.. Но было уже слишком поздно.
Мной овладевал стыд. Что ответить этой девушке? Что я сама подготовила эту драму, выпестовала этот бунт, который она так осудила? И все это — во имя принципов, которые теперь, когда я оказалась вдали от дома, свелись к напыщенным, пустым словам? Как объяснить ей мою ненависть к Лелле? И это любопытство по отношению к самой себе, которое леденило меня посреди мною же устроенного пожара? Сказать ей, что вся эта кипучая деятельность обусловлена всего лишь нетерпением познать себя? Она бы ничего не поняла. Все это время на языке у нее были другие люди: близкие, семья, общество; она, как знаменем, потрясала понятиями «ответственность» и «долг»… Я же была увлечена лишь собой.